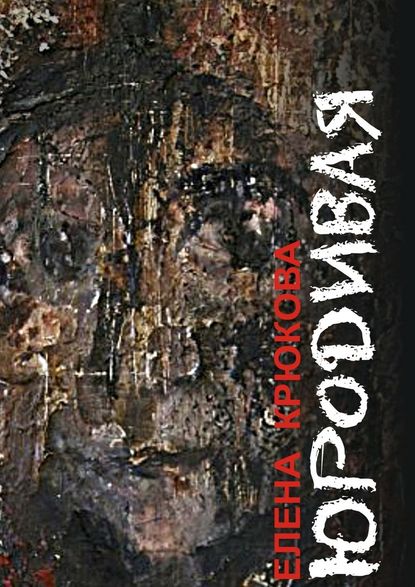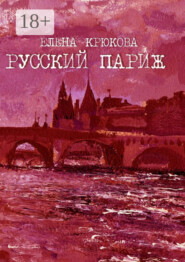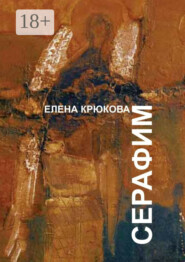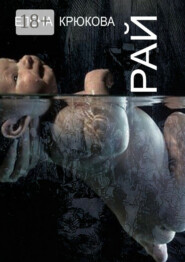По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Юродивая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Глаза их скрестились, косо дернулись вниз. Голыми ступнями они стояли в крови, уже наполовину смытой морской водой, уже смешавшейся с морем, его смехом и холодом.
Лейтенант задрожал. Он все понял. Ему захотелось удрать как можно быстрей. А еще больше – захотелось снова обнять ее, поселковую дурочку с мола, потому что его губы и живот вспомнили ее и захотели окунуться в нее опять, как в море. Зачем он забрел сюда! Лучше бы пять суток гауптвахты! Это жесточе боя. Если узнают в поселке – ему тюрьма. Она беззащитна и, может, сильно больна.
Он протянул руки и коснулся ее дрожащих под холстиной плеч.
– Эй, как зовут тебя, не знаю, только не уходи! – вытолкнул из себя с натугой.
Ветер трепал их наряды – холщовый и хлопчатый. Они не двигались. Под ее ладонью билось живое сердце. Под его руками сводило холодом женские плечи. Он сделал дурочку женщиной, и сладкая гордость распирала его. Ему казалось – крылья за его спиной, за ее лопатками. Он снова хотел ощутить свою острую тоску внутри ее радости, непомерной и горячей. Он не хотел, чтобы она уходила. Пусть тюрьма и трибунал; пусть громкий смех из многих глоток и расстрел. Может, он заразился и стал дураком. Но если она уйдет – все пропало.
Он сильнее сжал ее плечи. Придвинул мокрое лицо к ее лицу.
– Слышь, – зашептал он. – У меня есть знакомый шофер. Отличный парень. Язык за зубами. Увезет нас. Я из казармы удеру. Плевать на все. Я мужик смелый. Ты не бойся. Я хочу с тобой жить. Косарь увезет нас далеко. Он нас не выдаст. Ни в жизнь, Косарь не такой подонок. У него машина казенная, грузовик, но наплевать. Он все равно обратно пригонит. Слышь, дура! – Он перевел дух. – Сказала бы, как зовут тебя! Я тебя не оставлю! Я не отпущу тебя. Хоть режь меня. Я тебя… вылечу. Ты будешь хорошая баба… нормальная. И мы с тобой заживем. Как люди. Денег у меня немного есть, там к матери моей проберемся… а?.. Да слышишь ли ты?!.. Или глухая?!
Ксения печально поглядела на него, запоминая навек. Рванулась к нему, прижалась вся, по-девчоночьи, по-детски. Так крепко обнимались они, что кости чуть не хрустнули. Потом она отпрянула и резко, грубо стряхнула его руки с плеч своих.
Помолчали немного. Лейтенант ждал ее ответа. Море глухо бухало в серый бубен вокруг них.
– Не ходи за мной, – просто сказала Ксения. – Все, что было с нами, уже было когда-то, давно. И еще будет много раз. И у тебя, и у меня. Я сама не хочу уходить, но кто-то сильный тащит меня. Не догоняй! Меня Ксенией зовут. Ты запомнишь меня?..
Огромные слезы текли по ее щекам, скулам, носу, подбородку, шее, она утирала их руками, кулаками, шмыгала в сгиб локтя, окунала в пригоршню колышущееся лицо, утишая горе, убивая силой разлуку, и уже повернулась спиной, и уже шла, прочь шла по длинному бесконечному каменному молу, заросшему водорослями, как старик – бородой, и видел лейтенант качающуюся от рыданий, в свете морских брызг, узкую спину, видел мелькающие под рогожей щиколотки и пятки, следил – через набухшие линзы проклятых мужицких слез – как шла от него прочь по молу девочка, обесчещенная им, девочка в сером мешке, смешная, желанная, – и он вспомнил, что спас ее в неведомую войну из-под танка, вытащил, ругаясь матерно, из-под смерти это любимое нежное тельце, – а она уходила опять, и он скрипел зубами, и оторвал медную пуговицу на гимнастерке, пытаясь распахнуть ворот, ибо задыхался от горя, – а она уже шла по берегу, по наледи, по засыпанным снегом голым камням, все дальше, по снегу, босая, в виду приземистых мрачных домов поселка, и уже мальчишки бежали вслед за ней и бросали в нее маленькими камнями и острыми ракушками, и он увидел, как от ее рогожки и от ее затылка исходит свет и лучи рвутся в сторону моря; и закинул он руку себе за голову, и пощупал лысый затылок, и засмеялся больно, морщась:
– Косичка!…
А ветер толкал его в сутулую тощую спину: уходи, уходи-ка ты, парень, навсегда отсюда.
Тропарь Ксении о приходе ея в град Армагеддон
Таким образом я потеряла девственность, и теперь мне было ничто не страшно. С Востока, от холодного моря, я тогда снова пошла на заход Солнца, в смертельные для взгляда человека западные города. Я ночевала где придется, а то и не ночевала совсем – бессонно шла по дорогам, вглядываясь вдаль, во тьму. Боялась ли я чего, кого? Ясно, боялась. Когда страх хватал особенно сильно, я лезла за пазуху – у меня там всегда был хлеб от добрых людей, собачке, мне, брошенный – и грызла, всасывая внутрь хлебный сок. Хлеб давал мне силу. Он смывал накипь страха. Так, молясь и замерзая в ночах, добрела я до большого города, созданного из кишения дырчатого камня, глупых скал и стен отвес, до небес, из сот и склепов – вырывались из дыр огни, и имя ему было то ль Бабье Лоно, то ль Волчье Логово, то ль Умри-Герой, а то ли как еще, разве хороша память у меня. Тысячи дорог я мерила хлипким телом, маятником Простора, и возжелала отдохнуть. А город тот, сумасшедшенький, кипел и блистал весь проклятыми, богатыми харчевнями – пруд их было пруди! На всяком углу – искры рассыпали! Зазывали! А я, Ксенья, беднячка. Босячка. В мешке через всю землю прусь. Ноги в крови, в цыпках. Мыслю так: меня туда, в Царскую едальню, нипочем не пустят.
Подхожу к чугунной двери, стучу в застекленье, жду – удара, крика, ругани, толканья взашей. Приготовилась. Вечер, полыхают и шевелятся по всей безвидной тьме огни, легион огней – жгут спину, там, где у ангелов крылья бывают. Может, это ноябрь. Мне холодно. Мне робко. Мне бы поесть и согреться. Там цветные стекла бесятся, дамы в боа скрючились над печеным и жареным мясом. А я тут шавка. Шыр, шыр – шаги к вратам. Роскошный скрип. Отворенье – настежь.
– А, это вы!.. Пжалста, мы давненько вас поджидаем. Быстрей, быстрей!.. С вашим гримом… Знаем, знаем, как вы долгонько переоблачаетесь, видали…
Пустили! Приняли за кого-то, ну и ладно. Я втерлась в залу сквозь блесткую жучиную толпу. Все благоухало. В нищей Шамбале знали цену ароматам, по косточкам ведали их смысл. Запахи шли слоями, густились, тупели. Разве можно испечь из запахов многослойный пирог? Я села за пустой стол, укрытый камчатной скатертью, и крикнула: «Принесите мне хлеба!» Все головы обернулись, и все глаза уставились на меня. Человек в черной коже, кисло скукожив рот, чтоб не смеяться, притащил мне на серебряной дощечке немного кусков хлеба, графин с чем-то кровавым и тягучим и солонку с серой, расколотыми друзами, солью – на, подавись. Я стала чинно есть под тихий говор и пересверкиванье глаз. Я была голодная и замерзшая, и спасибо тому кислоротому, что меня накормил. Только я успела поднести неведомый кусок ко рту, как загрохотали бубны варьете, и мохнатые девки с голыми, как лилии, ногами полезли на возвышение, скалясь и топоча, и вперед, из всех, вырвалась коричневая, пахучая, маслено-потная девчонка, глаза – по плошке, светятся, как у кошки, шея торчит башней из кучи кружев, колени вздергиваются до подбородка: бесовка! Так заплясала, что я ей закричала:
– Поддай, поддай! Еще, еще!
И я захлопала что было сил в ладоши, вскочила и засвистела – свистеть меня научили приморские мальчишки в поселке, я и залилась соловьем. Вся ресторация с куриных насиженных мест повскакала. Бабы, что поближе ко мне, краской до ушей залились. Гогот! Гвалт! Эти, жуки в черном, меня уже под локти берут. Разобрались, видно, в чем дело. Что не та я, кого ждали. Не клоунша, а настоящая. А настоящего им не надо. Крема не было внутри меня: одни отруби крепкие.
Вот уже волокут, тащат, усовещивают, – а эта коричневая тетка как рванется ко мне с деревянного постамента, вцепилась мертво: «Дайте мне ее, дайте!» Выговаривает странно. Наша речь – и не наша тоже. «Уйди, Испанка, – жуки ей вопят. – Это совсем не госпожа Скоробогатова. Это, видно, побирушка из подземного перехода, шваль. Погреться ей захотелось! А потом в притон пойдет, на малину. Не мешай – выгоним!» Смуглянка меня за плечо схватила и к себе тянет. «Нет! – визжит. – Не отдам! Мне ее пластика нужен, пластика! Понимай! Дурак, официант! Ты не думай, Петька, это быть лицо ресторана!»
Так тащили меня в разные стороны, и была я вмешана в дикое тесто толпы, и давила и мяла меня людская свара, и видела я у людей песьи головы вместо живых лиц, но Испанка поднатужилась, сильней оборотней оказалась, вырвала меня из черного душного месива, вытянула. В борьбе мне вывихнули кисть, Испанка потянула и вправила, я заорала от боли.
– Кричать? – улыбнулась Испанка, коснулась пальцем моего подбородка. – Голос быть замечательная! То, что надо! Мешок – снимать?..
Я так и не сняла свою одежду. Мы поладили с Испанкой. Она учила меня танцевать. Место, где все толкались и пили, сзади большого ресторанного зала, называлось – ночной бар. Я знала, для чего я ночью не сплю. Но эти, зачем у них отнят был сон? Затем ли, чтобы ужасом сласти и желания наполнять, насыщать под завязку живые мешки угрюмых тел своих? Я не осуждала их. Я видела – Волчье Логово живет по своим законам, которые мне не нужно было постигать – я видела их, как мертвую птицу через стекло, – мне надо было смиряться с ними, носить их на плечах, совать их в карман. И знала я, что не смогу; и печаль сжимала птичье сердце мое.
«Нога – здесь!.. Нога – вверх!..» – повелительно кричала Испанка, заставляя меня делать вместе с нею танец. Я вздергивала ногами. Мешок болтался, голизна моя была вся на виду. Не собиралась я становиться танцовщицей. Зачем я шла на поводу у Испанки? Оттого, что она меня спасла? Она наряжала меня. Баловала. Не доедят богачки – она после грохота варьете быстро оббежит залу, соберет прямо в подол все вкусненькое, всех звезд-морских-лимонов, все орешки-в-мережку, – и бежит ко мне, несется, припрыгивает, танцует: «Вот, ешь, Ксения, ми корасон! Ми маха! Керида! Мы много сил надо, чтобы – жить!..» Она не знала, как проклинала я жратву, еду – благословляла. Но ела покорно эти барские фитюльки, чтобы доказать ей, дивной, коричневой, свою любовь.
Да и она любила меня. Часто – сидим после танцев, отдыхаем – мне руку на ногу клала. Искала глазами глаза. Нежно по шее, вдоль сонной жилы, гладила. Но разве в телесах ласкаемых все дело любви? Выражаем ее коряво, плотью. А она высоко, над нами. И не поймать нам ее руки и ноги в танце, ее летящую спину, бьющиеся бедра. Однажды Испанка наклонилась и поцеловала мне ладонь. «За что?» – спросила я, смеясь. «За радость, ми корасон», – был ответ. И я бросилась ей на шею, и пылко обняла ее. А все актерки варьете заржали, как лошади, ибо вся любовь наша нищая, светлая, проходила у них на глазах.
– Гляньте, кошки!.. Гляньте, кошки!.. – взвизгнули девицы, поджимая животы, тиская и тряся в ладонях свои груди. – Гляньте, соком истекают!.. Уж ничего не скроют, нахалюги!.. Ну ты, Испанка, не тушуйся, ее нашенскому ремеслу натаскай, обучи…
Шла ли речь о ремесле любви? То, что было со мной на холодном сыром молу, застлалось ветрами, солью, земною пургой. Я не запомнила ничего, кроме боли и радости. Но и этого было довольно; но и это было наградой – мне, малой, не отработавшей работы Богу за то, что живу. Я не боялась Испанки. Я любила ее. А она, когда нарядит меня в море обносочных кружев, в круговерть запятнанного закулисного атласа то цвета яблок, то цвета крови, – кричит дурашливо и зазывно: «Ох, Ксенья, я боюсь тебья!.. Я боюсь тебья!..» Я мрачно скину наряды, под ними – родной мешок. И уйду в ночь – одна.
Как ни просила меня Испанка, бедная, как ни умоляла, – я упрямо уходила одна, ибо ночевала я одна в одной комнате, одной из многих пустых и озверелых комнат, в большом и благородном старом доме на слом, в пустом, где выли одни вьюги, огневом переулке, называемом в народе «Цирком». Меня предупреждали, делали страшные глаза, но я увидела лицо хорошего дома и погладила его по лицу, и нагло вперлась туда, поселилась – мне запоры были нипочем, пожарные запреты и ночные облавы: я залезала наверх по скелетной железной лестнице, по которой спасают из огня детей, вваливалась в разбитое окно, ложилась на безногий диван – из него по ночам выползали древесные жучки – и беззаботно засыпала, благословляя мир, благословляя тепло, ложе, ночлег, сон. Во сне ко мне приходили: мать, Царица, жена Царя, и Испанка. Они меня ласкали, водили руками по моим щекам и животу, ругали меня, плакали надо мной. Я пьяным от сна языком утешала их, чтобы не скорбели обо мне, ибо путь еще дальний. Когда дворник в дворницкой, в подвале, кочергой громко треснет о черенок лопаты или двинет ломом для колотья грязного льда в ветхую, гиблую стену – просыпалась. Проснусь и молюсь: Господи, дай спящим – сон, любящим – сон про любовь. Кому, огромному и недужному, снимся мы, малые букашки, древесные земные жучки, в кромешной и сумасшедшей черноте Божьего неба?!..
Дворницкий дом, кабацкое молчанье. Кто бушевал в том доме до – меня? Ночью голоса наваливались на меня, кричали в уши, вопили и пели. Это были не ресторанные сны. Люди живые пели и плясали мне свои отгоревшие жизни. Вертелись и плакали цыганки в цветных тряпках. Безумствовали оркестры, и брызгал пот от музыкантских лбов. Шла старуха с подносом, чашки катились, накренясь, и разбивались о паркет – и под чепцом сверкали – на старом, высохшем лике – мои, мои глаза! Одежды шелестели, тела мерцали, остро и жарко пахли; расстегивались пуговицы, рвались ленты, хлопали резкие росстанные двери, – чьи лошади ждали, топчась, у ворот?!.. Тоже мои?!.. Это все была я. Все эти прошлые мужики, все бабы. Они разрывали меня надвое своею болью, как завесу в храме. Я вертелась на топчане веретеном. Пружины скрипели, смеясь. На мокрое лицо мое глядели в окно ножевые звезды.
И я вскакивала с калечного диванишки, задирала лицо к пустому потолку, где в щелях жили жуки, и пела дико, рьяно:
А – эх! – мои вы кони благородныи,
А – эх! – мои вы златы пироги…
Попробуй тронь!.. – умру, умру свободною,
И вдаль уйду, где ни звезды, ни зги…
Дом ухал мне в ответ на песню пустыми чахоточными легкими.
Ходила я, ходила так ночами, и доходилась. Однажды нарядила меня Испанка махровой гвоздикой. Мы плясали перед ночными людьми до упаду, до сладкого пота меж лопатками. Они швыряли нам веселые расписные бумажки – Испанка их собирала в подол, казала зубы толпе – голубую искру меж смуглых щек, – это были безумные деньги, больные, и, может, за них-то возмездие и настигло. В черный разлив ночи, волчий и совиный, закончилось варьете. Испанка хватала меня за руки. Я смеялась, вырывалась и убежала от нее, не сдернув цветных одежд. На воле мело белым, алмазным. Я бежала сначала каменными угрюмыми лощинами, потом влила реку тела в проходной двор. Там стояла телега, вся занесенная снегом. Лежал круг сдутой пустой шины, весь седой на морозе. А я бежала в ярких тряпках. За мною послышалось дыхание, кряхтение, скрип. Морковный хруст. Меня изнутри обдало кипятком, и я решила не оглядываться. Думала – убегу. Если б в любимой мешковине одной – улетела бы. Ноги сами несли. А тут Испанкины навороченные слоями, как сливки на торте, лохмотья. Как она кричала: «Красота!.. Красота!..» Меня красота погубила. Настигали. Трое. Может быть, четверо. Тьма страха укрыла веки, виски. Вот уже цепкая лапа схватила плечо. Тот, кто обогнал, дал ловкую подножку. Я свалилась – носом в снег. Спину мою прижали коленом. Топтали ногами. Я узнала, каково это – когда ходят по тебе; ходят по загривку, по хребту. Когда крестец хрустит, как снег.
Они катали меня по снегу. Валяли. Ломали меня, выворачивали руки. Я пробовала кусаться. Они вырвали мне сережки – подарок Испанки; сорвали красную, с багряными кистями, шаль, совали в рот, пытались затолкать в глотку мантилью. Думали умертвить мой крик. Я заорала! Крик вышел из меня, как ребенок! Резали ножом, прямо на мне, алые, синие наряды. Разрывали лезвием кожу. Кровь текла на снег. Я знала, что будет еще страшнее, и уже не страшилась. Ясно, кристально текла мысль. Я видела себя со стороны и чуть с высоты. Было больно, печально. Они распяли меня на снегу. Тыкали ножом в живот, надсекали подмышки. Кололи ребра. Я уже не кричала. Следила, как алеет чистый снег вокруг меня, набухает ужасом и страданием. Мои запястья и щиколотки были прижаты к ледяной земле чугуном коленей, клешнями нечеловечьих рук. И это были люди. Люди – все у них было устроено как у людей; двое крепко держали меня руками и ногами, третий сопел, отдуваясь и задыхаясь, плюясь перегаром, всовывая в меня себя: человечий отросток, земную плоть, белемнит – чертов палец. Я захлебывалась солью чужого наслаждения, а в это время два других беса чертили на мне остриями ножей кресты. Один, другой крест – я хорошо чувствовала, что это кресты, я выгибалась, чтобы их, сочащиеся кровью, на себе увидеть. Не могла. Слишком сильно прижимал меня к заметеленной земле сначала один; потом второй; потом третий; а потом кресты слились в одно красное Солнце, и тут я ничего не помню.
И все затянулось, как плохая рана, синей, плотной кожей тьмы. И я стала видеть не глазами, а затылком, пальцами, пупком, пятками. Синие зубчатые горы стояли вокруг меня. Я шла к источнику с кувшином за белой водой. Нищие тетки сидели на дороге вдоль моего пути, скалились. Тянули ко мне дрожащие руки. Во всякую ладошку я клала старую денежку. Раздавала улыбки направо, налево. Раскосый, бородатый и длинноволосый разбойничий Будда приходил к холодному источнику и любил меня. Я знала, что это нищая Шамбала. Там валялся на дорогах такой же, как у нас, мусор вперемешку со снегом; но там был раскосый Будда, и он называл Исуса: «Исса, сын Мой», – не потому, что Он был его сын, а потому, что сильно любил Его. Это потом их сделали врагами. Вложили им в руки огненные мечи. А они сидели рядом в нищей Шамбале, пили из каменных пиал, тесно сдвигали лбы. И так сидели, подобно памятнику вечной любви.
Может быть, я проснулась потом. Проснулась – грязный песчаный и глинистый берег большой, как свадебная простыня, реки. Поздняя осень. Снег еще не лег. Дебаркадер с белыми некрашеными колоннами вмерзает, качаясь, в ледяную воду. Отражение его в воде – призрак. Я сплю под забытой в зиму просмоленной лодкой на чужой рабочей фуфайке. Зябко, смертно, зимне, и я кажусь себе смотанным в клубок живым канатом, вервием, которому больно. Оно оставлено здесь на зиму, и его развяжут лишь по весне. И, может быть, на нем повесится старый бродяга, поднимет дрожащими руками лодку, чтобы лечь под нее, как в могилу, и подумает: вот счастье мое, вот мой покой.
Ты мой покой, подумает и старик бакенщик, он – вон, рядом со мной, спящей, ругается крепко и просто, пытается поймать ноябрьскую плотицу сетью-пауком. Глупый. Бедный. Никого ему не поймать пауком. Никогда.
И опять я пыталась разорвать стягивающуюся намертво рану ногтями, зубами! Если мрачные края сошьются – я больше не вылезу наружу! Пусть меня распнут еще раз и еще; пусть убьют; пусть пытают; это муки жизни. С молчанием, со льдом колодца смерти их не сравнить.
И я услышала опять свое хрипенье. Услышала свой рык. Свои ругательства. Свой крик. Свой ор. Он пронзил проходные дворы. Он заставил отшатнуться распинающих меня. Я вопила, билась в вопле, и я внезапно поняла, что:
СМЕРТИ НЕТ.
Я навек поняла, что:
СМЕРТИ НЕТ.
Я содрогаясь от счастья, бесповоротно поняла, что
СМЕРТИ НЕТ И НЕ БУДЕТ,
потому что ощутила себя – во всех жизнях и все жизни – во мне. Все было во мне и я была во всем. Это было так просто, что я кричала от счастья. Те трое, четверо или пятеро, та безъязыкая толпа схватила меня и несла во тьму, тащила, ломала мне голодные кости, затылком я видела мелькание черных и серебряных сугробов, изморозь на избитых камнях, лестницу, пропахшую далекими криками и далекой кровью, меня волокли по ней, о ступени стучали мои виски и пятки, и в темной каморе ждали и визжали еще люди – да, люди, ибо все человеческое было у них; и они также распинали, распяливали меня на каменных плитах, и я утыкалась носом в плевок, и в раззявленный рот мне лез брошенный, еще горячий окурок; и я слышала оголтелый звон тимпанов, рев дудок, бряцанье систров; из табачного тумана лезли еще и еще рожи, голени, чресла, отлетали пуговицы срамных одежонок, зияли прорехи; и когда мною натешились вволюшку, наизмывались, наглотались всласть моего смертного крика, живого, бьющего фонтаном, кровью из великой жизненной жилы, – подтащили меня, подпинывая, матерясь, прижигая голые плечи и брюхо окурками, к раскрытому окну, раскачали и бросили прямо в ночь. Я царапалась обратно, вцеплялась в подоконник, вопила, обнажая зубы и язык, но все было напрасно – меня выталкивали, отдирали с мясом мои цепкие руки и ступни, пихали в затылок, в шею, били наотмашь в спину, и, наконец, я полетела вниз – не раскинув руки, а грубо и бескрыло, камнем, топором на дно зимнего, крутящегося бешеного мира.
И, падая, я разбилась на много кусков, и посланные наутро люди и нелюди находили внизу, под окном, мою окровавленную ногу, кисти моих рук в браслетах, не сдернутых насильниками, лоскуты моей кожи, лопасти лопаток, арфу сухожилий, мой череп – мою бедную голову с настежь открытыми глазами, продолжающими видеть все – и белесое молоко неба, и худую ведьмину метель, и трясущиеся руки бандитов в грязных перстнях, собирающие мои зрячие останки, и мои белые, поседевшие за ночь волосы, нищие пряди, бьющиеся на ветру.
Ее гуляния по Армагеддону расходились кругами.
Она шла по кругу из центра; охватывала любовным взглядом плоские и островерхие крыши, нагромождения бетонных свай, тяжелые деревянные слеги, блескучие сотовые окна Вавилонских Башен. Внезапно она останавливалась, садилась на снег, доставала из-за пазухи сверток с едой, разворачивала истрепанную бумагу, брала пальцем простую еду и важно ела. Она не видела глаз, не слышала голосов. Она всегда была сама с собой, а пережитые смерти защищали ее от хулы и поношения.
Лейтенант задрожал. Он все понял. Ему захотелось удрать как можно быстрей. А еще больше – захотелось снова обнять ее, поселковую дурочку с мола, потому что его губы и живот вспомнили ее и захотели окунуться в нее опять, как в море. Зачем он забрел сюда! Лучше бы пять суток гауптвахты! Это жесточе боя. Если узнают в поселке – ему тюрьма. Она беззащитна и, может, сильно больна.
Он протянул руки и коснулся ее дрожащих под холстиной плеч.
– Эй, как зовут тебя, не знаю, только не уходи! – вытолкнул из себя с натугой.
Ветер трепал их наряды – холщовый и хлопчатый. Они не двигались. Под ее ладонью билось живое сердце. Под его руками сводило холодом женские плечи. Он сделал дурочку женщиной, и сладкая гордость распирала его. Ему казалось – крылья за его спиной, за ее лопатками. Он снова хотел ощутить свою острую тоску внутри ее радости, непомерной и горячей. Он не хотел, чтобы она уходила. Пусть тюрьма и трибунал; пусть громкий смех из многих глоток и расстрел. Может, он заразился и стал дураком. Но если она уйдет – все пропало.
Он сильнее сжал ее плечи. Придвинул мокрое лицо к ее лицу.
– Слышь, – зашептал он. – У меня есть знакомый шофер. Отличный парень. Язык за зубами. Увезет нас. Я из казармы удеру. Плевать на все. Я мужик смелый. Ты не бойся. Я хочу с тобой жить. Косарь увезет нас далеко. Он нас не выдаст. Ни в жизнь, Косарь не такой подонок. У него машина казенная, грузовик, но наплевать. Он все равно обратно пригонит. Слышь, дура! – Он перевел дух. – Сказала бы, как зовут тебя! Я тебя не оставлю! Я не отпущу тебя. Хоть режь меня. Я тебя… вылечу. Ты будешь хорошая баба… нормальная. И мы с тобой заживем. Как люди. Денег у меня немного есть, там к матери моей проберемся… а?.. Да слышишь ли ты?!.. Или глухая?!
Ксения печально поглядела на него, запоминая навек. Рванулась к нему, прижалась вся, по-девчоночьи, по-детски. Так крепко обнимались они, что кости чуть не хрустнули. Потом она отпрянула и резко, грубо стряхнула его руки с плеч своих.
Помолчали немного. Лейтенант ждал ее ответа. Море глухо бухало в серый бубен вокруг них.
– Не ходи за мной, – просто сказала Ксения. – Все, что было с нами, уже было когда-то, давно. И еще будет много раз. И у тебя, и у меня. Я сама не хочу уходить, но кто-то сильный тащит меня. Не догоняй! Меня Ксенией зовут. Ты запомнишь меня?..
Огромные слезы текли по ее щекам, скулам, носу, подбородку, шее, она утирала их руками, кулаками, шмыгала в сгиб локтя, окунала в пригоршню колышущееся лицо, утишая горе, убивая силой разлуку, и уже повернулась спиной, и уже шла, прочь шла по длинному бесконечному каменному молу, заросшему водорослями, как старик – бородой, и видел лейтенант качающуюся от рыданий, в свете морских брызг, узкую спину, видел мелькающие под рогожей щиколотки и пятки, следил – через набухшие линзы проклятых мужицких слез – как шла от него прочь по молу девочка, обесчещенная им, девочка в сером мешке, смешная, желанная, – и он вспомнил, что спас ее в неведомую войну из-под танка, вытащил, ругаясь матерно, из-под смерти это любимое нежное тельце, – а она уходила опять, и он скрипел зубами, и оторвал медную пуговицу на гимнастерке, пытаясь распахнуть ворот, ибо задыхался от горя, – а она уже шла по берегу, по наледи, по засыпанным снегом голым камням, все дальше, по снегу, босая, в виду приземистых мрачных домов поселка, и уже мальчишки бежали вслед за ней и бросали в нее маленькими камнями и острыми ракушками, и он увидел, как от ее рогожки и от ее затылка исходит свет и лучи рвутся в сторону моря; и закинул он руку себе за голову, и пощупал лысый затылок, и засмеялся больно, морщась:
– Косичка!…
А ветер толкал его в сутулую тощую спину: уходи, уходи-ка ты, парень, навсегда отсюда.
Тропарь Ксении о приходе ея в град Армагеддон
Таким образом я потеряла девственность, и теперь мне было ничто не страшно. С Востока, от холодного моря, я тогда снова пошла на заход Солнца, в смертельные для взгляда человека западные города. Я ночевала где придется, а то и не ночевала совсем – бессонно шла по дорогам, вглядываясь вдаль, во тьму. Боялась ли я чего, кого? Ясно, боялась. Когда страх хватал особенно сильно, я лезла за пазуху – у меня там всегда был хлеб от добрых людей, собачке, мне, брошенный – и грызла, всасывая внутрь хлебный сок. Хлеб давал мне силу. Он смывал накипь страха. Так, молясь и замерзая в ночах, добрела я до большого города, созданного из кишения дырчатого камня, глупых скал и стен отвес, до небес, из сот и склепов – вырывались из дыр огни, и имя ему было то ль Бабье Лоно, то ль Волчье Логово, то ль Умри-Герой, а то ли как еще, разве хороша память у меня. Тысячи дорог я мерила хлипким телом, маятником Простора, и возжелала отдохнуть. А город тот, сумасшедшенький, кипел и блистал весь проклятыми, богатыми харчевнями – пруд их было пруди! На всяком углу – искры рассыпали! Зазывали! А я, Ксенья, беднячка. Босячка. В мешке через всю землю прусь. Ноги в крови, в цыпках. Мыслю так: меня туда, в Царскую едальню, нипочем не пустят.
Подхожу к чугунной двери, стучу в застекленье, жду – удара, крика, ругани, толканья взашей. Приготовилась. Вечер, полыхают и шевелятся по всей безвидной тьме огни, легион огней – жгут спину, там, где у ангелов крылья бывают. Может, это ноябрь. Мне холодно. Мне робко. Мне бы поесть и согреться. Там цветные стекла бесятся, дамы в боа скрючились над печеным и жареным мясом. А я тут шавка. Шыр, шыр – шаги к вратам. Роскошный скрип. Отворенье – настежь.
– А, это вы!.. Пжалста, мы давненько вас поджидаем. Быстрей, быстрей!.. С вашим гримом… Знаем, знаем, как вы долгонько переоблачаетесь, видали…
Пустили! Приняли за кого-то, ну и ладно. Я втерлась в залу сквозь блесткую жучиную толпу. Все благоухало. В нищей Шамбале знали цену ароматам, по косточкам ведали их смысл. Запахи шли слоями, густились, тупели. Разве можно испечь из запахов многослойный пирог? Я села за пустой стол, укрытый камчатной скатертью, и крикнула: «Принесите мне хлеба!» Все головы обернулись, и все глаза уставились на меня. Человек в черной коже, кисло скукожив рот, чтоб не смеяться, притащил мне на серебряной дощечке немного кусков хлеба, графин с чем-то кровавым и тягучим и солонку с серой, расколотыми друзами, солью – на, подавись. Я стала чинно есть под тихий говор и пересверкиванье глаз. Я была голодная и замерзшая, и спасибо тому кислоротому, что меня накормил. Только я успела поднести неведомый кусок ко рту, как загрохотали бубны варьете, и мохнатые девки с голыми, как лилии, ногами полезли на возвышение, скалясь и топоча, и вперед, из всех, вырвалась коричневая, пахучая, маслено-потная девчонка, глаза – по плошке, светятся, как у кошки, шея торчит башней из кучи кружев, колени вздергиваются до подбородка: бесовка! Так заплясала, что я ей закричала:
– Поддай, поддай! Еще, еще!
И я захлопала что было сил в ладоши, вскочила и засвистела – свистеть меня научили приморские мальчишки в поселке, я и залилась соловьем. Вся ресторация с куриных насиженных мест повскакала. Бабы, что поближе ко мне, краской до ушей залились. Гогот! Гвалт! Эти, жуки в черном, меня уже под локти берут. Разобрались, видно, в чем дело. Что не та я, кого ждали. Не клоунша, а настоящая. А настоящего им не надо. Крема не было внутри меня: одни отруби крепкие.
Вот уже волокут, тащат, усовещивают, – а эта коричневая тетка как рванется ко мне с деревянного постамента, вцепилась мертво: «Дайте мне ее, дайте!» Выговаривает странно. Наша речь – и не наша тоже. «Уйди, Испанка, – жуки ей вопят. – Это совсем не госпожа Скоробогатова. Это, видно, побирушка из подземного перехода, шваль. Погреться ей захотелось! А потом в притон пойдет, на малину. Не мешай – выгоним!» Смуглянка меня за плечо схватила и к себе тянет. «Нет! – визжит. – Не отдам! Мне ее пластика нужен, пластика! Понимай! Дурак, официант! Ты не думай, Петька, это быть лицо ресторана!»
Так тащили меня в разные стороны, и была я вмешана в дикое тесто толпы, и давила и мяла меня людская свара, и видела я у людей песьи головы вместо живых лиц, но Испанка поднатужилась, сильней оборотней оказалась, вырвала меня из черного душного месива, вытянула. В борьбе мне вывихнули кисть, Испанка потянула и вправила, я заорала от боли.
– Кричать? – улыбнулась Испанка, коснулась пальцем моего подбородка. – Голос быть замечательная! То, что надо! Мешок – снимать?..
Я так и не сняла свою одежду. Мы поладили с Испанкой. Она учила меня танцевать. Место, где все толкались и пили, сзади большого ресторанного зала, называлось – ночной бар. Я знала, для чего я ночью не сплю. Но эти, зачем у них отнят был сон? Затем ли, чтобы ужасом сласти и желания наполнять, насыщать под завязку живые мешки угрюмых тел своих? Я не осуждала их. Я видела – Волчье Логово живет по своим законам, которые мне не нужно было постигать – я видела их, как мертвую птицу через стекло, – мне надо было смиряться с ними, носить их на плечах, совать их в карман. И знала я, что не смогу; и печаль сжимала птичье сердце мое.
«Нога – здесь!.. Нога – вверх!..» – повелительно кричала Испанка, заставляя меня делать вместе с нею танец. Я вздергивала ногами. Мешок болтался, голизна моя была вся на виду. Не собиралась я становиться танцовщицей. Зачем я шла на поводу у Испанки? Оттого, что она меня спасла? Она наряжала меня. Баловала. Не доедят богачки – она после грохота варьете быстро оббежит залу, соберет прямо в подол все вкусненькое, всех звезд-морских-лимонов, все орешки-в-мережку, – и бежит ко мне, несется, припрыгивает, танцует: «Вот, ешь, Ксения, ми корасон! Ми маха! Керида! Мы много сил надо, чтобы – жить!..» Она не знала, как проклинала я жратву, еду – благословляла. Но ела покорно эти барские фитюльки, чтобы доказать ей, дивной, коричневой, свою любовь.
Да и она любила меня. Часто – сидим после танцев, отдыхаем – мне руку на ногу клала. Искала глазами глаза. Нежно по шее, вдоль сонной жилы, гладила. Но разве в телесах ласкаемых все дело любви? Выражаем ее коряво, плотью. А она высоко, над нами. И не поймать нам ее руки и ноги в танце, ее летящую спину, бьющиеся бедра. Однажды Испанка наклонилась и поцеловала мне ладонь. «За что?» – спросила я, смеясь. «За радость, ми корасон», – был ответ. И я бросилась ей на шею, и пылко обняла ее. А все актерки варьете заржали, как лошади, ибо вся любовь наша нищая, светлая, проходила у них на глазах.
– Гляньте, кошки!.. Гляньте, кошки!.. – взвизгнули девицы, поджимая животы, тиская и тряся в ладонях свои груди. – Гляньте, соком истекают!.. Уж ничего не скроют, нахалюги!.. Ну ты, Испанка, не тушуйся, ее нашенскому ремеслу натаскай, обучи…
Шла ли речь о ремесле любви? То, что было со мной на холодном сыром молу, застлалось ветрами, солью, земною пургой. Я не запомнила ничего, кроме боли и радости. Но и этого было довольно; но и это было наградой – мне, малой, не отработавшей работы Богу за то, что живу. Я не боялась Испанки. Я любила ее. А она, когда нарядит меня в море обносочных кружев, в круговерть запятнанного закулисного атласа то цвета яблок, то цвета крови, – кричит дурашливо и зазывно: «Ох, Ксенья, я боюсь тебья!.. Я боюсь тебья!..» Я мрачно скину наряды, под ними – родной мешок. И уйду в ночь – одна.
Как ни просила меня Испанка, бедная, как ни умоляла, – я упрямо уходила одна, ибо ночевала я одна в одной комнате, одной из многих пустых и озверелых комнат, в большом и благородном старом доме на слом, в пустом, где выли одни вьюги, огневом переулке, называемом в народе «Цирком». Меня предупреждали, делали страшные глаза, но я увидела лицо хорошего дома и погладила его по лицу, и нагло вперлась туда, поселилась – мне запоры были нипочем, пожарные запреты и ночные облавы: я залезала наверх по скелетной железной лестнице, по которой спасают из огня детей, вваливалась в разбитое окно, ложилась на безногий диван – из него по ночам выползали древесные жучки – и беззаботно засыпала, благословляя мир, благословляя тепло, ложе, ночлег, сон. Во сне ко мне приходили: мать, Царица, жена Царя, и Испанка. Они меня ласкали, водили руками по моим щекам и животу, ругали меня, плакали надо мной. Я пьяным от сна языком утешала их, чтобы не скорбели обо мне, ибо путь еще дальний. Когда дворник в дворницкой, в подвале, кочергой громко треснет о черенок лопаты или двинет ломом для колотья грязного льда в ветхую, гиблую стену – просыпалась. Проснусь и молюсь: Господи, дай спящим – сон, любящим – сон про любовь. Кому, огромному и недужному, снимся мы, малые букашки, древесные земные жучки, в кромешной и сумасшедшей черноте Божьего неба?!..
Дворницкий дом, кабацкое молчанье. Кто бушевал в том доме до – меня? Ночью голоса наваливались на меня, кричали в уши, вопили и пели. Это были не ресторанные сны. Люди живые пели и плясали мне свои отгоревшие жизни. Вертелись и плакали цыганки в цветных тряпках. Безумствовали оркестры, и брызгал пот от музыкантских лбов. Шла старуха с подносом, чашки катились, накренясь, и разбивались о паркет – и под чепцом сверкали – на старом, высохшем лике – мои, мои глаза! Одежды шелестели, тела мерцали, остро и жарко пахли; расстегивались пуговицы, рвались ленты, хлопали резкие росстанные двери, – чьи лошади ждали, топчась, у ворот?!.. Тоже мои?!.. Это все была я. Все эти прошлые мужики, все бабы. Они разрывали меня надвое своею болью, как завесу в храме. Я вертелась на топчане веретеном. Пружины скрипели, смеясь. На мокрое лицо мое глядели в окно ножевые звезды.
И я вскакивала с калечного диванишки, задирала лицо к пустому потолку, где в щелях жили жуки, и пела дико, рьяно:
А – эх! – мои вы кони благородныи,
А – эх! – мои вы златы пироги…
Попробуй тронь!.. – умру, умру свободною,
И вдаль уйду, где ни звезды, ни зги…
Дом ухал мне в ответ на песню пустыми чахоточными легкими.
Ходила я, ходила так ночами, и доходилась. Однажды нарядила меня Испанка махровой гвоздикой. Мы плясали перед ночными людьми до упаду, до сладкого пота меж лопатками. Они швыряли нам веселые расписные бумажки – Испанка их собирала в подол, казала зубы толпе – голубую искру меж смуглых щек, – это были безумные деньги, больные, и, может, за них-то возмездие и настигло. В черный разлив ночи, волчий и совиный, закончилось варьете. Испанка хватала меня за руки. Я смеялась, вырывалась и убежала от нее, не сдернув цветных одежд. На воле мело белым, алмазным. Я бежала сначала каменными угрюмыми лощинами, потом влила реку тела в проходной двор. Там стояла телега, вся занесенная снегом. Лежал круг сдутой пустой шины, весь седой на морозе. А я бежала в ярких тряпках. За мною послышалось дыхание, кряхтение, скрип. Морковный хруст. Меня изнутри обдало кипятком, и я решила не оглядываться. Думала – убегу. Если б в любимой мешковине одной – улетела бы. Ноги сами несли. А тут Испанкины навороченные слоями, как сливки на торте, лохмотья. Как она кричала: «Красота!.. Красота!..» Меня красота погубила. Настигали. Трое. Может быть, четверо. Тьма страха укрыла веки, виски. Вот уже цепкая лапа схватила плечо. Тот, кто обогнал, дал ловкую подножку. Я свалилась – носом в снег. Спину мою прижали коленом. Топтали ногами. Я узнала, каково это – когда ходят по тебе; ходят по загривку, по хребту. Когда крестец хрустит, как снег.
Они катали меня по снегу. Валяли. Ломали меня, выворачивали руки. Я пробовала кусаться. Они вырвали мне сережки – подарок Испанки; сорвали красную, с багряными кистями, шаль, совали в рот, пытались затолкать в глотку мантилью. Думали умертвить мой крик. Я заорала! Крик вышел из меня, как ребенок! Резали ножом, прямо на мне, алые, синие наряды. Разрывали лезвием кожу. Кровь текла на снег. Я знала, что будет еще страшнее, и уже не страшилась. Ясно, кристально текла мысль. Я видела себя со стороны и чуть с высоты. Было больно, печально. Они распяли меня на снегу. Тыкали ножом в живот, надсекали подмышки. Кололи ребра. Я уже не кричала. Следила, как алеет чистый снег вокруг меня, набухает ужасом и страданием. Мои запястья и щиколотки были прижаты к ледяной земле чугуном коленей, клешнями нечеловечьих рук. И это были люди. Люди – все у них было устроено как у людей; двое крепко держали меня руками и ногами, третий сопел, отдуваясь и задыхаясь, плюясь перегаром, всовывая в меня себя: человечий отросток, земную плоть, белемнит – чертов палец. Я захлебывалась солью чужого наслаждения, а в это время два других беса чертили на мне остриями ножей кресты. Один, другой крест – я хорошо чувствовала, что это кресты, я выгибалась, чтобы их, сочащиеся кровью, на себе увидеть. Не могла. Слишком сильно прижимал меня к заметеленной земле сначала один; потом второй; потом третий; а потом кресты слились в одно красное Солнце, и тут я ничего не помню.
И все затянулось, как плохая рана, синей, плотной кожей тьмы. И я стала видеть не глазами, а затылком, пальцами, пупком, пятками. Синие зубчатые горы стояли вокруг меня. Я шла к источнику с кувшином за белой водой. Нищие тетки сидели на дороге вдоль моего пути, скалились. Тянули ко мне дрожащие руки. Во всякую ладошку я клала старую денежку. Раздавала улыбки направо, налево. Раскосый, бородатый и длинноволосый разбойничий Будда приходил к холодному источнику и любил меня. Я знала, что это нищая Шамбала. Там валялся на дорогах такой же, как у нас, мусор вперемешку со снегом; но там был раскосый Будда, и он называл Исуса: «Исса, сын Мой», – не потому, что Он был его сын, а потому, что сильно любил Его. Это потом их сделали врагами. Вложили им в руки огненные мечи. А они сидели рядом в нищей Шамбале, пили из каменных пиал, тесно сдвигали лбы. И так сидели, подобно памятнику вечной любви.
Может быть, я проснулась потом. Проснулась – грязный песчаный и глинистый берег большой, как свадебная простыня, реки. Поздняя осень. Снег еще не лег. Дебаркадер с белыми некрашеными колоннами вмерзает, качаясь, в ледяную воду. Отражение его в воде – призрак. Я сплю под забытой в зиму просмоленной лодкой на чужой рабочей фуфайке. Зябко, смертно, зимне, и я кажусь себе смотанным в клубок живым канатом, вервием, которому больно. Оно оставлено здесь на зиму, и его развяжут лишь по весне. И, может быть, на нем повесится старый бродяга, поднимет дрожащими руками лодку, чтобы лечь под нее, как в могилу, и подумает: вот счастье мое, вот мой покой.
Ты мой покой, подумает и старик бакенщик, он – вон, рядом со мной, спящей, ругается крепко и просто, пытается поймать ноябрьскую плотицу сетью-пауком. Глупый. Бедный. Никого ему не поймать пауком. Никогда.
И опять я пыталась разорвать стягивающуюся намертво рану ногтями, зубами! Если мрачные края сошьются – я больше не вылезу наружу! Пусть меня распнут еще раз и еще; пусть убьют; пусть пытают; это муки жизни. С молчанием, со льдом колодца смерти их не сравнить.
И я услышала опять свое хрипенье. Услышала свой рык. Свои ругательства. Свой крик. Свой ор. Он пронзил проходные дворы. Он заставил отшатнуться распинающих меня. Я вопила, билась в вопле, и я внезапно поняла, что:
СМЕРТИ НЕТ.
Я навек поняла, что:
СМЕРТИ НЕТ.
Я содрогаясь от счастья, бесповоротно поняла, что
СМЕРТИ НЕТ И НЕ БУДЕТ,
потому что ощутила себя – во всех жизнях и все жизни – во мне. Все было во мне и я была во всем. Это было так просто, что я кричала от счастья. Те трое, четверо или пятеро, та безъязыкая толпа схватила меня и несла во тьму, тащила, ломала мне голодные кости, затылком я видела мелькание черных и серебряных сугробов, изморозь на избитых камнях, лестницу, пропахшую далекими криками и далекой кровью, меня волокли по ней, о ступени стучали мои виски и пятки, и в темной каморе ждали и визжали еще люди – да, люди, ибо все человеческое было у них; и они также распинали, распяливали меня на каменных плитах, и я утыкалась носом в плевок, и в раззявленный рот мне лез брошенный, еще горячий окурок; и я слышала оголтелый звон тимпанов, рев дудок, бряцанье систров; из табачного тумана лезли еще и еще рожи, голени, чресла, отлетали пуговицы срамных одежонок, зияли прорехи; и когда мною натешились вволюшку, наизмывались, наглотались всласть моего смертного крика, живого, бьющего фонтаном, кровью из великой жизненной жилы, – подтащили меня, подпинывая, матерясь, прижигая голые плечи и брюхо окурками, к раскрытому окну, раскачали и бросили прямо в ночь. Я царапалась обратно, вцеплялась в подоконник, вопила, обнажая зубы и язык, но все было напрасно – меня выталкивали, отдирали с мясом мои цепкие руки и ступни, пихали в затылок, в шею, били наотмашь в спину, и, наконец, я полетела вниз – не раскинув руки, а грубо и бескрыло, камнем, топором на дно зимнего, крутящегося бешеного мира.
И, падая, я разбилась на много кусков, и посланные наутро люди и нелюди находили внизу, под окном, мою окровавленную ногу, кисти моих рук в браслетах, не сдернутых насильниками, лоскуты моей кожи, лопасти лопаток, арфу сухожилий, мой череп – мою бедную голову с настежь открытыми глазами, продолжающими видеть все – и белесое молоко неба, и худую ведьмину метель, и трясущиеся руки бандитов в грязных перстнях, собирающие мои зрячие останки, и мои белые, поседевшие за ночь волосы, нищие пряди, бьющиеся на ветру.
Ее гуляния по Армагеддону расходились кругами.
Она шла по кругу из центра; охватывала любовным взглядом плоские и островерхие крыши, нагромождения бетонных свай, тяжелые деревянные слеги, блескучие сотовые окна Вавилонских Башен. Внезапно она останавливалась, садилась на снег, доставала из-за пазухи сверток с едой, разворачивала истрепанную бумагу, брала пальцем простую еду и важно ела. Она не видела глаз, не слышала голосов. Она всегда была сама с собой, а пережитые смерти защищали ее от хулы и поношения.