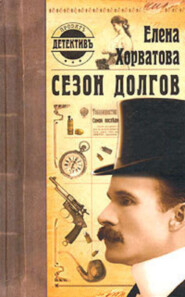По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Роман Серебряного века на фоне войн и революций. Князь Евгений Трубецкой и Маргарита Морозова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но предался он искусству как дилетант, как завсегдатай театральных премьер и вернисажей, как коллекционер, как меценат, жертвующий на художественные проекты деньги. Богатые пожертвования у него с удовольствием принимали, но по-настоящему своим в кругу московской художественной интеллигенции он так и не стал, хотя очень к этому стремился. Представители богемы, даже бывая по-свойски в его доме и получая от семейства Морозовых заказы, все равно ухитрялись сохранять дистанцию между своим кругом, кругом творческой элиты, и эксцентричным миллионером-мануфактурщиком.
А вот Маргарита Кирилловна для художников стала своей. Ей верили, в разговоре с ней легко было раскрыть душу, а это особо ценилось в мире, полном интриг и зависти. Многим вспоминались уютные посиделки в ее гостиной, задушевные беседы с хозяйкой, умеющей так чутко слушать, денежная помощь, которой Маргарита тактично, ненавязчиво, ничем не обидя, часто даже анонимно выручала друзей из беды…
Порой она вдохновляла художников на создание новых полотен (как показало время – истинных шедевров).
Например, на панно Врубеля «Венеция» московская публика узнала Маргариту Морозову в образе венецианской дамы. И это было не случайно.
В те годы в обществе на благотворительных вечерах и милых домашних вечеринках чрезвычайной популярно стью пользовались «живые картины» – своего рода самодеятельные представления, участники которых гримировались, наряжались в костюмы и застывали на сцене в статических позах, воплощая некий сюжет – мифологический, библейский, исторический, фольклорный…
Однажды на благотворительном вечере в Литературнохудожественном кружке Маргарита Морозова изображала в подобной живой картине «Карнавал в Венеции» венецианку в гондоле. Живая картина имела большой успех и позже была повторена на вечерах в Малом театре и в Дворянском собрании.
На фоне декораций, написанных Коровиным, Маргарита вновь и вновь представала в образе венецианской дамы.
Эти любительские спектакли произвели столь сильное впечатление на Врубеля, что он, работая над своим панно «Венеция», придал облику женщины, выходящей из гондолы, черты Маргариты Морозовой, да и сама композиция его работы напоминала «живую картину».
Михаилу Абрамовичу это отчасти польстило. Жена должна была соответствовать его статусу, являться предметом всеобщего восхищения и вести насыщенную светскую жизнь, снова и снова доказывая, что Морозовы – не последние люди в матушке Первопрестольной.
Но, с другой стороны, положение в свете делало Маргариту слишком уж заметной фигурой, и вокруг молодой, обаятельной, элегантной дамы роем вились разнообразные поклонники. А это чрезвычайно раздражало ее мужа, допускавшего лишь почтительное восхищение супругой «издалека».
Такие взаимоисключающие требования – с одной стороны, блистать в обществе и вызывать всеобщий восторг, а с другой – чтобы никто при этом не посмел приблизиться и как-либо обнаружить свой восторг, – приводили к конфликтам.
Характер Михаила Морозова портился на глазах. Вероятно, сказывалась и наследственная предрасположенность к психической нестабильности. Беспричинные вспышки раздражения, затмевающая разум ревность, когда Михаил терял весь свой университетский лоск и начинал вести себя как пьяный сапожник, грязно ругаясь и не брезгуя рукоприкладством, были мучительны для Маргариты, привыкшей к утонченности чувств.
Даже рождение в 1895 году второго ребенка, дочери Елены, мало что изменило. По мнению Михаила, детьми должны были заниматься нанятые няньки и кормилицы, а его жена не смела превращаться в домашнюю клушку и обязана была вести прежний, насыщенный светскими развлечениями образ жизни (и не дай бог, подать при этом повод для ревности – дома, подальше от людских глаз, можно получить за «развязность» скандальные упреки, а то и пощечину).
Да, в те минуты, когда юная Маргарита стояла у алтаря в подвенечном уборе, супружеская жизнь представлялась ей совсем иной…
К лету 1897 года обстановка в доме Морозовых накалилась настолько, что беременная третьим ребенком Маргарита сбежала из своего богатого особняка в дом матери.
Для Маргариты Оттовны это был сильный удар – она-то так радовалась и гордилась, что великолепно устроила жизнь своих девочек (младшая сестра Маргариты Елена тоже, едва оттанцевав на балах свой первый сезон, выскочила замуж за известного московского богача Родиона Вострякова и тоже, как и старшая сестра, бесприданницей).
А теперь матери пришлось принять под свой кров сбежавшую от мужа Маргариту, измученную семейными ссорами и дрязгами до такой степени, что риск потерять ребенка становился все более ощутимым. Конечно же, Маргарита Оттовна не отказала дочери в тихом приюте и сделала все, чтобы окружить теплом и заботой свою несчастную Гармосю (так Маргарита называла себя в раннем детстве, будучи не в силах выговорить непослушным язычком сложное имя Маргоша; так и продолжали ее называть самые близкие люди).
За Маргаритой потянулся шлейф сплетен и пересудов. Скандал в семействе молодых Морозовых сделался достоянием всего московского бомонда и жадно обсуждался на светских раутах, где Маргарита отныне перестала бывать.
К тому же на сцене Малого театра поставили современную пьеску «Джентльмен», в карикатурном герое которой, Ларионе Рыдлове, легко было узнать Михаила Абрамовича, а в героине Кэтт Рыдловой – Марго Морозову.
Работу над этой пьесой начинающий драматург и уже вполне известный актер Малого театра Александр Сумбатов (князь Сумбатошвили), выступавший под сценическим и литературным псевдонимом Южин, начал еще в 1893 году, но именно в 1897 году, когда состоялась премьера «Джентльмена», описанный в пьесе конфликт в семействе миллионеров Рыдловых почти полностью совпал с тем, что происходило в семье Морозовых.
Ларион Рыдлов, наследник немалых купеческих капиталов, предприниматель и меценат, с большими претензиями на образованность и светские манеры, женится на красивой бесприданнице и превращает жизнь жены в ад… От отчаяния и тоски молодая женщина покидает дом мужа-миллионера. Это не пошлое бегство с любовником – благородная Кэтт уходит в дом своего отца (вдовым отцом Южин заменил существовавшую в действительности вдовую матушку; ведь нужно же было придать реальной истории хоть какую-то литературную обработку!).
Правда, и матушка не осталась без своего сценического воплощения: все то, что автору пьесы не нравилось в Маргарите Оттовне Мамонтовой, он высмеял в образе тетки Кэтт, владелицы фабрики перчаток и магазина изящных вещей (сразу вспоминается модный салон госпожи Мамонтовой)…
Конечно, сценический Рыдлов, как и другие персонажи, был карикатурой, довольно злой, но все же очень близкой к оригиналу и поэтому узнаваемой… Зрители неизменно встречали аплодисментами хлесткие фразы о Рыдлове, в душе смеясь над его прототипом: «Уж он в литературу давно прорывается. Написал повесть психологического жанра и напечатал под псевдонимом „маркиз Вольдир“ – Рыдлов наоборот. В каком-то иллюстрированном журнале помещен даже его собственный портрет и автограф. „Маркиз Вольдир, писатель“. Рожа у него изображена в рембрандтовском освещении, но – увы! – все как будто лоснится».
Московская публика прекрасно знала, что и Михаил Морозов не лишен литературных амбиций, пописывает вольнодумные романы, правда, под куда более скромным псевдонимом «М. Юрьев», и успеха на этом поприще не снискал.
С пониманием встречено было и наивное замечание Кэтт: «Не успела я выйти замуж, уж за мною ухаживают», и вариации знакомых сплетен завистливых московских кумушек…
Но главным в пьесе были не пересказанные сплетни, не сцены ссор и ревности, не истерический крик отчаявшейся Кэтт: «Мне больно… мне неприятно… мне противно видеть вас всех, прежних… Вы точно опять тянете меня в ваш омут. Я теперь живу внутри себя так, как никогда не жила. Во мне счастье, свобода, жизнь… Я не та, какой я была. Я стала человеком и сумею это сберечь… Ваша жизнь – сплошной скандал, ложь, маска. У меня будет другая жизнь, и вас я в нее не пущу».
Главным было изложение господином Рыдловым своего жизненного кредо, и вот в этом, как утверждали, был весь Морозов:
«Вот и выходит, что сливки-то общества теперь мы. Дудки! Нас уж не затрешь. Теперь вокруг капитала все скон-цен-три-ровано».
Премьера «Джентльмена» прошла в октябре 1897 года. В роли Кэтт блистала сама Ермолова, придавшая этой «комедии нравов» неподобающе трагический колорит. Публика в театр валила валом, жадно приглядываясь к обнародованным подробностям чужой жизни. Через пару месяцев модную пьесу выпустили и в Петербурге на сцене Александринки…
Единственное, что удалось сделать в этой ситуации прототипу героя и что лучше всяких слов характеризует отношение Михаила Морозова к пьесе, напоказ вроде бы безразличное, – срыв постановки «Джентльмена» в Твери.
В городе, где все благополучие жителей так или иначе зависело от Морозовской мануфактуры, у текстильного магната были развязаны руки. Здесь Морозов чувствовал себя хозяином. Специально нанятые агенты заранее скупали все билеты на «Джентльмена», в театр никто не являлся и спектакли отменялись из-за отсутствия в зале публики.
Но зато в Первопрестольной подобные фокусы были невозможны, и «Джентльмена» посмотрела вся Москва. Сумбатов-Южин упивался успехом.
Он с восторгом запишет в «Кратком перечне главнейших событий моей жизни»: «„Джентльмен“ имеет в Москве большой успех сборов, общего мнения, скандала, но в Петербурге мой первый большой, серьезный успех. Все газеты полны хвалебных и больших статей…»
Впрочем, далеко не всем нравилась подобная бесцеремонность и «успех скандала».
Лика Мизинова, близкий друг Чехова, вскоре написала Антону Павловичу об авторе пьесы: «Вся Москва говорит, что он описал Мих. Морозова, и теперь опять поднялись прения всюду, имеет ли автор право – литератор или драматург – брать всю жизнь другого целиком. Куда ни придешь, все об этом говорят».
Но, несмотря на терзания и споры деликатных интеллигентов, прозвище Джентльмен так и прилепилось с тех пор к Михаилу Морозову, отличая его от иных представителей морозовского клана.
Одной лишь Маргарите Морозовой было не до сплетен и пересудов. Она была на последних месяцах беременности, когда тяжело заболела мать, Маргарита Оттовна. Нервное потрясение из-за несчастья дочери подорвало ее организм. Врачи не оставили близким особых надежд – болезнь неизлечима, госпожа Мамонтова обречена.
Это известие ошеломило дочь – молодая женщина была совершенно не готова остаться один на один с враждебным миром. Без помощи и без защиты, без надежного материнского крыла, всегда укрывавшего ее от житейских бурь.
Теперь Маргарита уже не вспоминала о своих детских обидах на мать, о завышенных нравственных требованиях, по которым она некогда осмелилась судить самого близкого человека. Мать умирала, и это повергло дочь в такое отчаяние, что новое испытание оказалось ей уже не по силам. Начались преждевременные роды, казалось, и роженица и дитя обречены.
Михаила Морозова, еще недавно изводившего любимую женщину ревностью и мелким домашним тиранством, обуяло раскаяние. Он пригласил к жене лучшего специалиста, одного из самых известных женских докторов в Москве Владимира Федоровича Снегирева. Снегирев чудом спас Маргариту и новорожденного. На свет появился еще один сын Морозовых, заставивший супругов примириться и получивший имя в честь отца – Михаил, Мика.
Рождение третьего ребенка, такое мучительное, заново открыло для Маргариты радость материнства. В ее сердце зазвучали новые, доселе неведомые струны. Может быть, прежде она была слишком молода или слишком уж раздавлена тотальным контролем и руководством мужа, но только теперь она ощутила настоящую неразрывную связь со своим новорожденным сыном и материнскую любовь, затмевающую все остальное.
Позже она откровенно напишет своему другу, князю Трубецкому: «Старшие были лишены моей материнской любви. Разве это не страдание для меня, что я вижу и понимаю… что оттого они такие неразвитые душой, что я не дала им своей настоящей души! Только Мика один и Маруся (младшая девочка, родившаяся в 1903 году. – Е. Х.), конечно, составляют нечто светлое для моей души и успокаивают ее».
Сколько боли и раскаяния в этих словах! Маргарита явно винит себя за каждый час, проведенный вдали от детей.
Но Михаила, рассчитывавшего, что после того, как жена оправится от родов, все пойдет по-прежнему, такое полное погружение Маргариты в радости материнства совсем не порадовало. Трещина, образовавшаяся в отношениях супругов перед рождением Мики, не заросла. Напротив, она продолжала углубляться.
Михаил и Маргарита все меньше времени проводили друг с другом. Теперь они редко появлялись вместе на концертах и театральных премьерах и уже никогда больше вместе не путешествовали… Морозов теперь в одиночестве ездил в Париж развлечься и пополнить свою коллекцию французской живописи, а его жена с детьми отправлялась на Волгу, в уединенное имение Поповка, где проводила время, гуляя в лесу с малышами.
Маргарите трудно было оторваться от дома и детей, особенно от грудничка Мики, а Михаилу Абрамовичу это казалось таким скучным. Чем ближе он был к собственному тридцатилетию, тем острее ощущал неудовлетворенность жизнью. Иной славы, кроме славы сумасбродного богача и карикатурного Джентльмена, он не снискал. Общественная деятельность ему совершенно наскучила. Его литературные амбиции остались неудовлетворенными. Публицистика Морозова не пользовалась интересом у читателей, научные работы не содержали в себе никаких открытий, социальный роман «В потемках», весь тираж которого был уничтожен по решению Комитета министров (уж казалось бы, какая блестящая реклама!), в списках тогдашнего «самиздата» оказался никому не интересен.
Демократическая общественность по старинке продолжала подпольно переписывать и читать труды Чернышевского, совершенно игнорируя свободолюбивые изыски творчества писателя-миллионера. Более того, знатоки отзывались о его литературных опытах весьма пренебрежительно.
«Михаил Абрамович не стесняется и чужие мысли выдавать за свои, да кто же нынче в этом стесняется? <…> Михаила Абрамовича замечают в плагиате. Он не смущается и продолжает дальше», – записал в своем дневнике художник Василий Переплетчиков из круга близких приятелей Морозова. А что же говорили чужие люди?
О, они церемонились еще меньше… Когда-то Михаил предпослал «Моим письмам» эпиграф, взятый из трудов Герцена: «Самое сильное наказание для книги – совсем не читать ее». Этому-то наказанию его книги и были подвергнуты.
Михаил стал много пить, вечера отныне проводил не в консерватории, а в Купеческом собрании или в Английском клубе за картами и гульбой. Его проигрыши давно разорили бы любого человека, у которого было не так много денег…