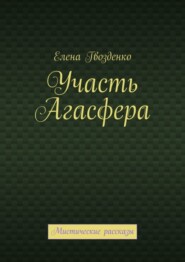По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пробудившаяся сила. Сборник новелл
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К вечеру добрались до постоялого двора. Мужики в расстегнутых тулупах жались к печке. Из разговоров понял, что собираются заночевать, рисковать в буран желающих не было. Но тошно было Макару, не мог он ждать, ему бы на волю, в беспамятство ледяной пляски, под ветер, вымораживающий до души.
– Торопишься, милок, – пожалела хозяйка.
– Угу.
– Какой ты, право, бирюк. Скоро Николай поедет, ему буран нипочем, сговорись, может, возьмет в попутчики, – махнула острым подбородком в сторону кудрявого молодчика.
И вот уже не пар от раскаленных горшков – белое лицо Матрешеньки со смеющимися глазами.
Сыпал, не считая, лишь бы быстрее, лишь бы не сидеть в духоте, забивающей горло. Николай обещал сделать крюк в десять верст, но доставить прямо к дому.
Понеслись! Лишь тонкий скрип полозьев да покрикивания возницы, вторящие заунывной вьюге. Поначалу Николай что-то спрашивал, о чем-то говорил, но, наткнувшись на тяжелый взгляд Макара, замолчав, буркнув: «бирюк». А Макар закрыл глаза, жадно вслушиваясь, карауля Матрешин смех. И услышал! Заливистый, счастливый, как в первый год после венчания, когда еще не умела хоронить младенцев, рождающихся мертвыми каждый год. Смех звучал так громко, что Макар не сразу разобрал, что ему кричит Николай.
– Спишь что ли, бирюк? Гляди-ка, лошадь встала. Что такое, не пойму, – и уже к лошади, – но, но, проклятая, чтоб тебя…
Макар не дослушал, спрыгнул с саней и напрямки к темнеющим впереди домам.
– Куда? Еще далеко, вернись, замерзнешь же, – неслось в спину.
Раздалось фырканье, и лошадь дернулась, а потом и припустила по укатанной дороге.
А Матренушка манила, летела белым облачком над нахохлившимися сугробами, нырнула под воротца дома, где сердитая Анфиса ворчала на своего Василия.
– Приедут, радости-то. Не зря говорят: «золовка – змеиная головка».
– Зря ты так, Катюха тебя любит. И Митька тоже. А уж мальцы… – Василий не договорил, Анфиса зашлась в тоскливом плаче.
– Не плачь, милая, – Макар протягивал что-то из заветного узелка, подвязанного к поясу, – подарок тебе к праздничку.
Анфиса с удивлением рассматривала искусно сделанную шкатулку с младенцем-ангелом на крышке.
– На будущее Рождество и в вашей избе люльку ладить придется, – повторял Макар за Матрешей, примостившейся на потолочной балке.
– Откуда ты знаешь? – Анфиса с интересом глянула на Макара.
– Знаю, милая.
Как много пустых слов. Он просто знал. Как понял сейчас, что встретит свою Матрешу завтра. И совсем не важно, что зовут ее по-другому, что она третий год вдовствует, тайком плача от укоров бездетной снохи. Знал, что посмотрит глазами Матрешиными и зальется веселым смехом, принимая заветное колечко, что столько лет хранил на груди в ладанке.
Кикимора кабацкая
В придорожном кабаке за темным, в пятнах и разводах, столом, у прокопченного мутного окошка сидели два крестьянина села Ухватово Гришка Лиховец да Мишка Востронос. Кабак тот стоял в трех верстах от села, у самого тракта. По понедельникам и пятницам, когда в Ухватово проходили большие базары, здесь было многолюдно. Но сейчас кроме этих крестьян сидел в нем угрюмый Никита из Волосников, у которого проси – не проси, мухи из чарки не выпросишь. Гришку и Мишку давно бы выгнали в базарный день, но сегодня целовальник наблюдал за завсегдатаями даже с каким-то интересом, все какое-то развлечение. Но и не наливал, как ни просили. Платы с них не дождешься, ради чего убыток терпеть, не из-за жалости же. Да и не осталось к таким жалости, домашних их жалко, баб, ребятишек. Вон у Гришки пятеро, хорошо хоть отец да братья не бросают. А этот любой грош сюда несет. Хорошо хоть Мишка не женат, да и кто за такого пойдет, даже опорки драные до последней возможности. Бабки от нечистой силы в сараях вешают целее.
У трактира остановилась повозка. Из телеги грузно вылез Петруха Скоробитников.
– Гляди-ка, Петруха от сватов и прямиком сюда, – оживился Мишка.
– Видать плохо встретили, раз у кабака лошадь стала.
Петруха заказал себе целый штоф вина.
– Эко, – друзья не отводили глаз от мелькающих чарок.
– Никак случилось что, – подсел Гришка к односельчанину.
– И ты тут, свекольный нос, – Скоробитников с трудом оторвался от разглядывания пятен на грязном столе.
– Да где ж мне быть-то? Дома, сам знаешь, воли нет, все братья к рукам прибрали. Да и батя ругает почем зря.
– А ты бы пореже сюда наведывался.
– Угостишь? – Гришка даже протянул грязную ладонь к штофу.
– Не тронь, – увесистый кулак воткнулся в тощую грудь. Гришка не удержался.
– Почто калечишь? – Подскочил Мишка. Поднял приятеля и усадил за стол Петрухи, – наливай теперь для здоровья.
– Для здоровья? Вам, ребятушки, для здоровья косу бы поострее. Налить? Изволь, только расскажи мне байку, чтобы думки развеяла.
– Байку? – Гришка даже приосанился, – да что байку, я тебе быль расскажу. Знаешь ли ты, что в этом вот кабаке жила кикимора кабацкая.
– Ишь что придумал, – подошел целовальник, – но сам сел за стол в ожидании интересной истории.
– Да лет двадцать тому история была. Это только говорят, что кикимора, а так – из проклятых.
– Что-то я слышал о кабаке, да теперь-то спокойно все. Вот и не верил.
– Да потому и спокойно, что Васька Силов, что держит постоялый двор в Заречье, вывел.
– Слыхивал про Силова, благочестивый человек, – поддержал Скоробитников.
– Это сейчас такой, а был, ну вроде нас, ему уж и в долг не наливали. Сам мне эту историю и рассказывал. Лет двадцать тому кабак этот недоброй славой пользовался. А уж целовальников сменил – не счесть. Только торг начнут, так всегда недостачи. В откупной конторе только дивились. Целовальники менялись, а прибыли все не было. И каждый из них рассказывал, что ровно в полночь слышат, будто кто сливает вино. Несколько раз, при свете свечки, видели карбыша, который убегал от бочки и скрывался под полом. До того дошло, что откупная контора не могла найти целовальника даже даром, без залога. Тут и Васька подвернулся, пьяница, каких свет мало видывал. Он и согласился.
Да, допился Васька, бедовая головушка. На краденых вещах чуть не сгинул. Мотался из кабака в кабак с рукой протянутой. А дома-то жена да двое ребятишек. Как бы ни нужда, разве согласился бы на место это жуткое? К заброшенному кабаку на трезвую голову и днем подойти боязно. До села версты три, с одной стороны дорога, по которой ночью только лихие люди промышляют, с другой – овраг черной бездной. Под самые стены подобрался, того и гляди, утащит, затянет в тьму болотную. Но пуще людей лихих боялся Васька слухов, что ходили о питейном заведении. В первую же ночь заперся на все запоры, зажег свечку и потягивал чарку за чаркой. И с каждой чаркой все спокойнее становился, бесстрашнее. Ждет полночи. В полночь и правда, будто кто забрался в подсобку и вино цедит. Взял Силов топор, свечку, отворил дверь. Что такое? Кран будто отвернут, а печати целы. Сорвал он тогда печати, стал перемеривать – так и есть: трех ведер не хватает.
Разозлился да как крикнет:
– Черт что ли отлил? Покажись мне. Я вас не боюсь, сам до чертиков допивался сколько раз.
Вдруг видит – половица отодвигается, из-под нее прорастает дерево. Да лихо так, вот уже и верхушка в матицу упирается, ветки да сучки все помещение заняли. Схватил Васька топор и начал рубить. Чувствует, застыл топор в руке, вроде держит кто. И голос:
– Не руби. Я это.
– Кто ты?
– Я тебе скажу. Мы будем друзьями, удачу тебе принесу.
– Да отпусти топор-то, выпить хочу.