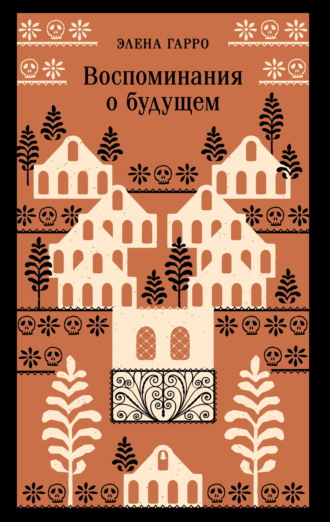
Воспоминания о будущем
Я помню, как Хуан и Николас отправились на рудники Тетелы. Подготовка длилась целый месяц. Однажды утром появилась швея Бландина в очках и с корзиной для шитья. Ее смуглое лицо и миниатюрное тело несколько мгновений размышляли, прежде чем войти в швейную комнату.
– Не люблю я стены; мне нужно видеть листья, чтобы запомнить крой, – мрачно заявила она и отказалась входить.
Феликс и Рутильо вынесли «Зингер» и рабочий стол в коридор.
– Так лучше, донья Бландина?
Швея медленно села за машинку, поправила очки, наклонилась и сделала вид, что работает, затем подняла голову и с тревогой проговорила:
– Нет, нет, нет, нет! Отнесите вон туда, к тюльпанам… Там очень интересные папоротники!
Слуги поставили швейную машинку и стол перед тюльпанами.
Бландина покачала головой:
– Слишком вычурно! Слишком! – произнесла она с отвращением.
Феликс и Рутильо нетерпеливо развернулись к женщине.
– Если вы не возражаете, я бы предпочла перед магнолиями, – мягко попросила она и бодрой рысью направилась к деревьям, однако, дойдя до них, обескураженно воскликнула: – Они слишком торжественны! Тоска!
Утро прошло, а Бландина так и не нашла подходящего места. Наступил полдень, а она все еще размышляла над своей проблемой, сидя за столом. Швея ела, не замечая того, что ей подают, безучастная и неподвижная, точно идол. Феликс менял ей тарелки.
– Не смотрите на меня так, дон Феликс! Поставьте себя на мое место: как можно орудовать ножницами, кроя дорогие ткани, в окружении неблагодарных стен и мебели… Я не могу найти себя!
После обеда Бландина наконец-то «нашла себя» в углу коридора.
– Отсюда я вижу только листву; все остальное теряется среди зелени, – прокомментировала она, улыбаясь, и взялась за работу.
Донья Ана пришла составить ей компанию, и руки Бландины принялись шить рубашки, москитные сетки, брюки, покрывала и простыни. В течение нескольких недель она шила до семи часов вечера. Сеньора Монкада помечала одежду инициалами детей. Время от времени швея поднимала голову:
– Это Хулия виновата в том, что дети уезжают одни и так далеко, в самую гущу опасностей и дьявольских искушений!
В те дни Хулия определяла судьбу всех нас, мы винили ее в самых незначительных несчастьях. Она же, защищенная собственной красотой, казалось, нас и не замечала.
Тетела находилась в горах, всего в четырех часах езды на лошади от Икстепека, во времени же эта дистанция была просто огромной. Тетела, полностью заброшенная, принадлежала прошлому. Все, что от нее осталось, – золотой престиж ее названия, гремящий в памяти, как погремушка, да несколько сгоревших дворцов. Во время революции те, кто владел содержимым рудников, исчезли, а вслед за ними эти места покинули и жившие там бедняки. Осталось лишь несколько семей, занимавшихся гончарным делом. По субботам на рассвете мы видели, как они приходили на рынок Икстепека, босые и оборванные, чтобы продать свои горшки. Дорога к рудникам пересекала сьерру и продолжалась сквозь «квадрильи» крестьян, измученных голодом и лихорадкой. Почти все они присоединились к восстанию сапатистов и после нескольких коротких лет борьбы вернулись в эти места, такие же бедные, как и прежде, чтобы занять свое место в прошлом.
Метисы боялись сельской местности. То было делом их рук, следствием их грабежа. Они пришли с насилием, а попали во враждебную страну, окруженную призраками. Террор, который они навели, привел их же самих к обнищанию. А меня – к деградации. «Ах, если бы мы только могли истребить всех индейцев, они – позор Мексики!» Индейцы молчали. Метисы, прежде чем покинуть Икстепек, набрали еды, лекарств, одежды и «пистолетов, хороших пистолетов, индейские ублюдки!» Собравшись вместе, они недоверчиво смотрели друг на друга, чувствуя, что нет у них ни страны, ни культуры. Они были как искусственный нарост, они жили за счет незаконно добытых денег. Из-за них мое время остановилось.
– С индейцами лучше не церемониться! – посоветовал Томас Сеговия на одной из встреч, устроенных семьей Монкада для проводов молодых людей. Сеговия привык к педантизму своей аптекарской лавки и раздавал советы таким же тоном, что и лекарства: «По бумажке каждые два часа».
– Они такие коварные! – вздыхала донья Эльвира, вдова дона Хустино Монтуфара.
– Они все на одно лицо, потому так опасны, – добавил Томас Сеговия, улыбаясь.
– Раньше с ними было легче. Что бы сказал мой бедный отец, да упокоится с миром его душа, если бы увидел этих восставших индейцев. А он ведь всегда был такой благородный! – сказала донья Эльвира.
– Веревка по ним плачет. Медленно не ходить. Оружие держать в порядке, – настаивал Сеговия.
Феликс, сидя на своей скамейке, невозмутимо слушал их. «Мы, индейцы, всегда храним молчание», – и оставил свои слова при себе. Николас смотрел на него и ерзал на стуле. Ему было стыдно за слова друзей его семьи:
– Не надо так говорить! Мы все наполовину индейцы!
– Во мне нет ничего индейского! – задыхаясь от негодования, воскликнула вдова.
Жестокость, холодным ветерком пронесшаяся над моими камнями и моими людьми, сгустила воздух в комнате и затаилась под стульями. Гости лицемерно улыбались. Кончита, дочь Эльвиры Монтýфар, взглянула на Николаса с восхищением. «Какое счастье быть мужчиной и иметь возможность высказывать свое мнение», – мрачно подумала она. Не принимая участия в разговоре, она скромно сидела и слушала, как падают слова, и переносила их стоически, как человек, который терпит ливень. Беседа утратила легкость.
– А знаете, что Хулия заказала себе диадему? – спросил Томас у вдовы и улыбнулся, чтобы загладить гнев, вызванный словами Николаса Монкада.
– Диадему? – изумилась вдова.
Имя Хулии разрядило мрачную обстановку, навеянную темой об индейцах, и разговор оживился. Феликс не остановил часы, их стрелки подхватывали слова, слетавшие с губ доньи Эльвиры и Томаса Сеговии, превращая их в армию пауков, сплетающих и расплетающих бесполезные фразы. Перебивая друг друга, гости с азартом мусолили имя Хулии, главной любовницы Икстепека.
Вдалеке раздался звон церковной башни. Часы в зале Монкада повторили этот звук более низким голосом, и посетители разбежались с паучьей быстротой.
Томас Сеговия сопровождал донью Эльвиру и Кончиту по темным улицам. Вдова воспользовалась темнотой, чтобы обсудить любимую тему аптекаря – поэзию.
– Скажите, Томас, о чем же нам говорит поэзия?
– Об этом все забыли, донья Эльвира; только я время от времени посвящаю стихам пару часов. Это страна неграмотных, – с горечью ответил тот.
«Что это он о себе возомнил», – сердито подумала женщина и замолчала.
Дойдя до дома вдовы, Сеговия галантно подождал, пока женщины задвинут засов и запрут ворота, а затем в одиночестве зашагал по улице. Он думал об Изабель, о ее мальчишеском профиле. «Она по натуре неуловимая», – сказал он себе в утешение за равнодушие девушки, невольно зарифмовав «неуловимая» с «неумолимая», и вдруг посреди ночного одиночества улицы его жизнь показалась ему огромным хранилищем прилагательных. Удивленный, Томас ускорил шаг; ноги его тоже отмеряли слоги. «Я слишком много сочиняю», – сказал он себе в каком-то недоумении и, придя домой, написал первые две строки первого четверостишия сонета.
– Лучше бы уделяла больше внимания Сеговии и не пялилась, как дурочка, на Николаса! – воскликнула Эльвира Монтуфар, сидя перед зеркалом.
Кончита не ответила: она знала, что мать говорит только для того, чтобы не молчать. Молчание пугало вдову, напоминало о неудобстве тех лет, что она провела с мужем. В то мрачное время она даже забыла о собственном облике. «Забавно, я не знаю, как я выглядела, когда была замужем», – признавалась она подругам.
«Девочка, хватит смотреться в зеркало!» – наказывали ей старшие, когда та была маленькой, но Эльвира не могла остановиться: собственный образ был для нее способом познавать мир. Через него она училась понимать траур и праздники, любовь и важные даты. Перед зеркалом она училась говорить и смеяться. Когда Эльвира вышла замуж, Хустино монополизировал и слова, и зеркала, так что женщина пережила несколько тихих, размытых лет, в течение которых двигалась как слепая, не понимая, что происходит вокруг. Единственное, что она помнила о тех годах, – это то, что их у нее не было. Не ей одной пришлось пережить то время страха и молчания. Теперь, хотя она и советовала дочери выйти замуж, ей нравилось, что Кончита не обращает на нее никакого внимания. «Не всем женщинам приличествует быть вдовами», – говорила она себе тайком.
– Смотри, если не поторопишься, останешься старой девой.
Кончита молча выслушала упрек матери и поставила поднос с водой под ее кровать, чтобы отпугнуть злых духов; затем положила «Ла Магнифика» и четки между наволочками. С самого детства Эльвира принимала меры предосторожности перед сном: она боялась своего спящего лица. «Я не знаю, как выгляжу с закрытыми глазами», – говорила она и накрывалась с головой одеялом, чтобы никто не видел ее лица, изменившегося до неузнаваемости. Она чувствовала себя беспомощной перед собственным спящим лицом.
– Как неприятно жить в стране индейцев! Они пользуются сном, чтобы навредить человеку, – заявила Эльвира, стыдясь того, что ее дочь в такое время занимается подобными делами вместо того, чтобы спать. Вдова энергично расчесала волосы и с удивлением осмотрела себя в зеркале. – Боже мой! Неужели это я? Эта старуха в зеркале? И такой меня видят люди? Никогда больше не выйду на улицу, не хочу вызывать жалость!
– Не говори так, мама.
– Слава богу, твой бедный отец умер. Представь его удивление, если бы он увидел меня сейчас… А ты, чего ты ждешь? Сеговия – лучшая партия в Икстепеке. Он, конечно, беден! И слушать его всю жизнь – сплошное наказание!.. Но разве это я? – повторила Эльвира, зачарованно разглядывая мимику собственного лица в отражении.
Кончита воспользовалась замешательством матери, чтобы уйти в свою комнату. Она хотела побыть одна, чтобы свободно помечтать о Николасе. В прохладе своей комнаты она представляла лицо молодого человека, слышала его смех. Жаль, что так и не осмелилась сказать ему ни слова! Вот мать ее говорила чересчур много, нарушая все очарование. Замуж за Томаса Сеговию! Как только ей в голову пришло ляпнуть такую глупость? Когда Сеговия говорил, его слова будто слипались у Кончиты в ушах. Она представила волосы Томаса и почувствовала, как его сальная голова к ней прикоснулась. «Если завтра мать о нем опять скажет, устрою истерику». Истерики дочери пугали донью Эльвиру.
Кончита злобно улыбнулась и с удовлетворением положила голову на подушку. Под подушкой она хранила смех Николаса.
– Не могу дождаться, когда вы уедете в свою Тетелу! – сердито крикнула Изабель, едва гости вышли за порог дома. Однако, как только братья уехали из Икстепека, она горько пожалела о своих словах: дом без них превратился в пустую скорлупку; Изабель перестала его узнавать, а также голоса родителей и слуг. Она отдалилась от них, превращаясь в потерянную точку в пространстве и наполняясь страхом. Существовали две Изабели: одна бродила по патио и комнатам, а другая жила в далекой сфере, застывшей в пространстве. Неприкаянная, она касалась предметов, чтобы хоть как-то связаться с видимым миром, брала в руки книгу или солонку, словно пытаясь удержаться за них и не упасть в пустоту. Так она создавала связь между реальной и нереальной Изабель и находила в этом утешение. «Молись, будь добродетельной!» – говорили ей, и девушка повторяла волшебные формулы молитв, пока те не распадались на бессмысленные слова. Между силой молитвы и словами, которые ее составляли, существовало такое же расстояние, как между двумя Изабелями: она не могла объединить ни молитвы, ни себя. И, зависшая в пространстве, Изабель могла в любой момент оторваться и упасть, как метеорит, в неизвестное время. Мать не знала, как к ней и подойти. «И это моя дочь Изабель», – повторяла она самой себе, с недоверием глядя на высокую и загадочную фигуру девушки.
– Иногда бумага как будто над нами смеется…
Дочь удивленно посмотрела на мать, и та покраснела. Ана хотела было сказать, что ночью сочинила письмо, которое разрушило бы пропасть, отделяющую ее от дочери, но утром, перед наглой белизной бумаги, ночные фразы развеялись, словно утренний туман в саду, оставив лишь набор бесполезных слов.
– А ночью я была такой умной! – вздохнула она.
– Ночью мы все умны, а наутро оказываемся глупцами, – прокомментировал Мартин Монкада, глядя на неподвижные стрелки часов.
Его жена вновь погрузилась в чтение. Мартин услышал, как она перевернула страницу, и посмотрел на нее так, как смотрел всегда: как на странное и очаровательное существо, которое делило с ним жизнь, ревностно храня священную тайну. Мартин чувствовал благодарность за ее присутствие. Ему не суждено узнать, с кем он живет, но ему это и не надо; достаточно знать, что он живет с кем-то. Мартин перевел взгляд на Изабель, утонувшую в глубоком кресле, ее взгляд был устремлен на пламя лампы; кто его дочь, он тоже не знал. Ана любила повторять: «Дети – совсем другие люди», удивляясь тому, что ее дети и она – не единое целое. Мартина поразила заметная тревога, охватившая Изабель. Феликс и его жена, трудолюбивые и спокойные, каждый возле своей лампады, казалось, не чувствовали никакой опасности: Изабель могла превратиться в падающую звезду, убежать, исчезнуть в пространстве, не оставив видимых следов присутствия в этом мире, где только грубые предметы обретают форму. «Метеорит – яростное желание побега», – сказал Мартин сам себе. Эти потухшие громадины казались ему странными: они сгорали в собственной ярости, осужденные на еще более мрачное заточение, чем то, от которого пытались сбежать. «Отделиться от целого по собственной воле – настоящий ад».
Изабель встала с кресла, оно казалось ей жестким; в отличие от матери, с ней говорила не только бумага, но и весь дом. Пожелав родителям спокойной ночи, девушка вышла из комнаты. «Семь месяцев прошло, как они уехали». Она забывала, что братья иногда приезжали в Икстепек, проводили с ней несколько дней и вновь уезжали на шахты. «Завтра попрошу отца их привезти», – с этими словами Изабель натянула на голову простыню, чтобы не видеть жаркую тьму и тени, которые с оглушительным шумом сливались и распадались на тысячи темных точек.
Николас тоже томился вдали от сестры. Во время поездок в Икстепек, пересекая сухую и безжизненную горную местность, он чувствовал, будто под копытами лошади вырастают валуны, а путь преграждают горы. Ехал он молча. Казалось, только воля помогает ему проложить путь в этом каменном лабиринте. Воля и воображение, без которых он ни за что не доберется до дома и останется в плену этих каменных стен, посылающих ему зловещие знаки. Хуан ехал рядом, радуясь возвращению к свету своей комнаты, теплу глаз отца и скупой на ласку руке Феликса:
– Как хорошо вернуться домой…
– Когда-нибудь я туда больше не вернусь, – сказал Николас с обидой.
Ему не хотелось признавать, что дома он боялся услышать новость о замужестве сестры, и этот страх мучил его. Николас был уверен: отец отправил их на шахты не из-за бедности, а чтобы заставить сестру выйти замуж.
– Изабель предательница, а отец – подлый…
– Помнишь, когда вы топили меня в пруду? Сейчас я чувствую себя точно так же, в этой темноте со всех сторон, – отозвался Хуан, напуганный словами брата.
Николас улыбнулся; в детстве они с Изабель толкали Хуана в воду и боролись друг с дружкой, кто первый его спасет. Затем с риском для жизни бросались в пруд и, вытащив брата из воды, шли в деревню с «утопленником» на руках, едва не лопаясь от гордости за собственный героизм. Тогда все трое пребывали в бесконечном удивлении от мира. В то время даже наперсток матери излучал волшебное сияние, когда та вышивала пчел и маргариток. Некоторые из тех особых дней остались в их памяти навсегда. Потом мир стал тусклым, потерял яркие краски и запахи, свет посерел, дни сделались одинаковыми, а люди начали казаться карликами. Хотя все еще оставались места, не тронутые временем, например, зияющая чернотой яма, откуда добывали уголь. Годы прошли с тех пор, когда они, сидя на кучах угля, с трепетом слушали перестрелку сапатистов во время набегов на деревню. За этими кучами их прятал Феликс. Куда уходили сапатисты после набегов на Икстепек? К зелени, к воде, где ели кукурузу и смеялись до упаду, часами резвясь с соседями. Теперь никто не приходил, чтобы скрасить их дни. Время стало тенью Франсиско Росаса. Повсюду в стране остались только «повешенные». Люди учились приспосабливать свои жизни к капризам генерала. Изабель тоже пыталась приспособиться, найти мужа и кресло, в котором она могла бы укачивать свою скуку.
Поздно ночью братья прибыли в Икстепек. Изабель помогла им спешиться. Родители ждали в столовой. Феликс подал ужин, который заставил Николаса и Хуана забыть о посиневших тортильях и лежалом сыре Тетелы. Наклонившись над столом, братья и сестра смотрели друг на друга, с трудом узнавая. Николас говорил только с Изабель. Дон Мартин со своего места прислушивался к их разговору.
– Если не хотите, не возвращайтесь в шахту, – тихо произнес он.
– Мартин, ты витаешь в облаках! Ты же знаешь, нам нужны эти деньги, – встревоженно ответила его жена.
Ее супруг молчал. «Мартин, ты витаешь в облаках» – эту фразу ему повторяли каждый раз, когда он совершал ошибку. Но разве принуждать детей – ошибка не более серьезная, чем потерять немного денег? Мартин не понимал непрозрачности мира, в небе которого единственным солнцем сияли деньги. «Мое призвание – быть бедным», – повторял он, оправдывая свое неизбежное разорение. Дни казались ему невыносимо короткими, чтобы тратить их на усилия ради добывания денег. Он чувствовал удушье среди «непрозрачных тел», как называл он жителей Икстепека: они растрачивали себя на мелочные интересы, забывали о своей смертности, их ошибка проистекала из страха. Мартин знал: будущее – это быстрое отступление к смерти, а смерть – совершенное состояние, драгоценный момент, когда человек полностью восстанавливает свою иную память. А потому он легко забывал об обещании самому себе «сделать это в понедельник» и смотрел на деловитую суету окружающих с изумлением. «Бессмертные» выглядели довольными в своем заблуждении, и Мартин думал, что лишь он один возвращается к драгоценному моменту смерти.
Ночь просачивалась в дом из сада через открытую дверь. В комнате поселились насекомые и сумеречные запахи. Сквозь дом будто текла таинственная река, связывая столовую семьи Монкада с сердцем далеких звезд. Феликс убрал тарелки и сложил скатерть. Бессмысленность и еды, и слов обрушилась на обитателей дома, и они замерли, неспособные выразить себя в настоящем.
– Не помещаюсь я в этом теле! – воскликнул Николас, обессиленный, и закрыл лицо руками, точно собираясь заплакать.
– Мы все устали, – отозвался Феликс со своего места.
В течение нескольких секунд весь дом словно взлетел в ночное небо, слился с Млечным Путем и беззвучно упал в то же самое место. Изабель, ощутив удар от падения, вскочила со своего места, посмотрела на братьев и вдруг почувствовала уверенность; она вспомнила, что находится в Икстепеке и что нечто неожиданное может вернуть их к утраченному порядку.
– Сегодня взорвали поезд. Возможно, они придут…
Остальные смотрели на нее, как сомнамбулы, и только ночные бабочки трепетали в пыльном танце вокруг ламп.
VКаждый вечер в шесть прибывал поезд из Мехико. Он привозил газеты, и ждали мы их с таким нетерпением, будто они могли снять заклятье, в тихий плен которого мы попали. Напрасно: в газетах появлялись лишь фотографии казненных. То было время расстрелов. Тогда мы думали, что ничто нас уже не спасет. Расстрельные стены, контрольные выстрелы, виселицы появлялись по всей стране. Лавина ужаса стирала нас в пыль и песок ровно до шести вечера следующего дня. Иногда поезд не приходил по несколько дней, и повсюду разносился слух: «Теперь точно придут!» Однако на следующий день поезд с его обычными новостями прибывал как положено, и неумолимая ночь опускалась на меня.
Со своей кровати донья Ана слышала ночные шорохи, полузадушенная неподвижным временем, охранявшим двери и окна дома. До нее донесся голос сына: «Не помещаюсь я в этом теле». Она вспомнила свое бурное детство на севере страны. Вспомнила дом с дверями из красного дерева, как они открывались и закрывались, впуская ее братьев; их звучные и дикие имена отзывались эхом в комнатах с высокими потолками, где зимой витал запах горящего дерева. Она вспомнила снег на подоконниках и звуки польки в коридоре, где гулял холодный ветер.
С гор спускались дикие коты, и слуги шли на них охотиться, заливая хохочущие глотки сотолем [2]. На кухне жарили мясо и раздавали кедровые орехи, и тишину дома вспарывали резкие голоса гостей. Предчувствие радости ломало застывшие дни один за другим. Революция вспыхнула внезапно, открыв двери времени. В тот сияющий миг братья Аны отправились в Сьерра-де-Чиуауа и вернулись оттуда в солдатских ботинках и военных беретах. За ними шли офицеры, и на улицах зазвучала «Аделита».
Если Аделита уйдет к другому,Пойду я за ней по земле и по морю;Если по морю – на корабле;А по земле – то на поезде…Братья не дожили до своих двадцати пяти лет, погибли один за другим: в Чиуауа, в Торреоне, в Сакатекасе; и у Франсиски, матери Аны, остались только их портреты да она сама с сестрами, в траурных платьях. Затем завоевания Революции были сведены на нет предательскими руками Каррансы, и убийцы пришли делить добычу, играя в домино в борделях, которые сами же и открыли. Мрачная тишина распространилась с севера на юг, и время вновь затвердело. «Если б только мы снова могли петь “Аделиту”! – сказала сама себе Ана, и ей понравилось, что взорвали поезд из Мехико. – Такие события заставляют жить». Возможно, еще может случиться чудо, которое изменит нашу кровавую судьбу.
Поезд возвестил о своем прибытии длинным победным гудком. Прошло уже много лет, никого не осталось из семьи Монкада, только я – свидетель их упадка – все еще здесь, каждый день, в шесть вечера, слушаю, как прибывает поезд из Мехико.
– Хоть бы приличное землетрясение случилось! – воскликнула донья Ана, сердито вонзая иглу в вышивку. Она, как и все мы, страдала от тоски по катастрофам. Дочь услышала гудок поезда и промолчала. Донья Ана направилась к балкону, чтобы через занавески подглядеть за генералом Франсиско Росасом, который шел в кантину Пандо, чтобы там напиться. – Какой молодой! Наверное, ему не больше тридцати! И уже такой несчастный! – добавила она с состраданием, наблюдая за генералом, высоким, стройным и равнодушным.
Из кантины доносился запах свежей еды. Слышался стук катящихся по столу игральных костей, и монеты со звоном переходили из рук в руки. Генерал, знатный игрок и любимец удачи, выигрывал. И по мере того как выигрывал, он терял самообладание и пил с еще большим отчаянием. Опьянев же, становился опасным. Его подручные старались выиграть у него хотя бы партию и беспокойно озирались, когда тот в очередной раз побеждал.
– А ну-ка, вы, подполковник мой дорогой, сыграйте партейку с генералом!
Подполковник Крус, улыбаясь, с готовностью шел обыгрывать Франсиско Росаса. Он был единственным, кому это легко удавалось. Полковник Хусто Корона, стоя позади своего командира, пристально наблюдал за игрой. Пандо, хозяин кантины, чутко следил за каждым движением военных; по выражениям их лиц он угадывал, когда атмосфера слишком накалялась.
– Пора на выход, генерал выигрывает!
И клиенты кантины, один за другим, постепенно исчезали. «Если генерал выигрывает, значит, Хулия его не любит; вот он и злится», – говорили мы со смехом и, выйдя на улицу, выкрикивали в сторону кантины то, что бесило военных.
Поздно ночью стук копыт лошади Франсиско Росаса нарушал тишину. Мы слышали, как он галопом проезжал по улицам, потерянный в своих мыслях. «Что ему нужно в такое время?» – «Набирается смелости перед тем, как идти к ней?» Не спешиваясь, заскакивал он во двор гостиницы «Хардин», а затем шел в комнату Хулии, своей возлюбленной.
VIОднажды вечером с поезда сошел незнакомец в темном костюме, дорожной кепке и с маленьким чемоданом в руке. Он остановился на разбитом перроне и стал оглядываться по сторонам, как бы сомневаясь, туда ли приехал. Постоял так несколько секунд, затем начал смотреть, как разгружают тюки из вагонов. Он был единственным пассажиром, сошедшим с поезда, и грузчики с доном Хусто, начальником станции, взирали на него с удивлением. Молодой человек, похоже, осознал любопытство, которое вызвал к своей персоне, и лениво зашагал по перрону к грунтовой дороге. Пересек ее и двинулся к почти пересохшей реке. Перейдя ее вброд, он направился к Икстепеку кратчайшим путем и вошел в город под изумленным взглядом дона Хусто. Казалось, молодой человек улыбался самому себе. Он миновал дом семьи Каталан, и дон Педро, прозванный «копилкой» из-за дырки, оставленной пулей на щеке, заметил его, пока разгружал банки с жиром у дверей своего магазинчика. Там из дверного проема уже выглядывала его любопытная жена Тоньита.


