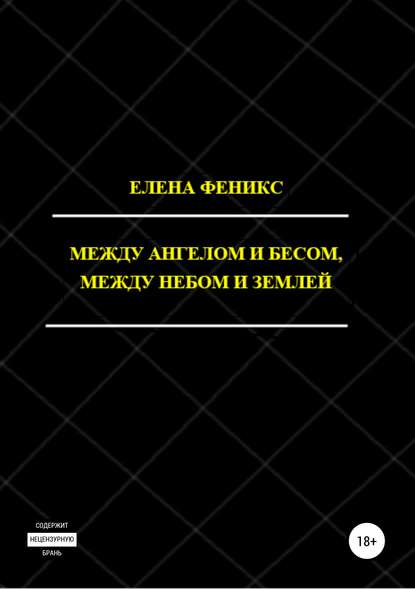По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Между ангелом и бесом, между небом и землей
Автор
Год написания книги
2006
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– ЧуднАя ты, – говорила мать, чувствуя сердцем, что дочь, зачатая при несколько странных обстоятельствах, и сама странная, не такая как все.
Второе воспоминание касалось моего отношения к мужчинам. Мне было годика четыре. Мы бежали с мамой по Караганде. Точнее, бежала она, а меня она просто волокла волоком вслед за папой, который отнас убегал. Они с мамой поссорились, и папа со злости рванул, куда глаза глядят. Мама бежала следом и кричала: «Гена, вернись!». Я отчетливо помню свою мысль в этот момент: «Чтобы я вот так за мужиками бегала?! Да ни за что!» Немыслимая для ребенка взрослость восприятия. Но главное – мысль! За ней явно угадывался опыт. Мой, личный опыт, коего у малышки четырех лет от роду по земной логике быть просто не могло!
Третье воспоминание связано с уроком. Не школьным. Я бы сказала, кармическим. Мне было 5 лет, я ходила в садик. Дело было зимой. Морозы у нас в Казахстане были неслабые, 35 – 40 градусов – норма. И вот я, маленькая девочка, подхожу к дверям детского сада. На двери – ручка металлическая, заиндевевшая. И я очень сильно хочу ее облизать. Хочу до страсти! Я прикасаюсь к ручке языком и, естественно, прилипаю. И стою, боясь пошевелиться. Понимаю, что в этом случае у меня или язык останется навеки вечные прилепленным к этой ручке, или язык все же уцелеет, но будет изодран в клочья. Если бы, не дай Бог, в тот момент дверь изнутри кто-нибудь открыл, он бы открыл ее вместе со мной и моим языком. По счастью мимо садика проходила какая-то женщина и увидела, что малышка прилепилась к двери. Женщина подбежала ко мне с криком: «Стоять смирно!» и упросила потерпеть и не шевелиться. Мороз крепчал, женщина убежала. Прибежала она с медсестрой и чайником с теплой водой. Мой язык отливали несколько минут, после чего долго разглядывали и удивлялись: он был весь потресканный, с глубокими рытвинами и разветвлениями. Взрослые не поняли: он у меня такой от рождения или оттого, что я прилепилась? Решили, что от рождения, потому что язык не кровоточил. Но врача вызвали. Врач изумился, сказав, что такие языки встречаются очень редко и называются по-медицински географическими. Я поняла, что по моему языку можно прочесть атлас мира. Или хотя бы СССР.
Я долго потом в зеркало разглядывала свой чудо-язык. И тщательно изучила атлас мира. На него мои иероглифы не походили. Наверно, если мой язык и атлас, то иного мира. Сама же я считаю, что мой язык-уникум напрямую связан с моим предназначением. Язык – это речь. Устная и письменная. Не случайно моим первым словом было слово «писать». Но, прилепляясь языком к замерзшей металлической дверной ручке, моя душа сигнализировала мне: не лепись ко всякой дряни! И уж коль суждено тебе пускать в ход свой нестандартный язык, то говори и пиши, как есть, никого и ничего не облизывая!
свой нестандартный язык, то говори и пиши, как есть, никого и ничего не облизывая!
Четвертое воспоминание связано с соперничеством с мужчинами. Мне уже было 7 лет. Мама уступила моим настойчивым просьбам и купила мне ярко-красное пальто и алые блестящие боты на огромной кнопке сбоку. Цвет одеяния был такой, что от него сводило скулы и сладко щемило в груди. Разодетая в эту красоту, с алым бантом в волосах я вместе с одноклассником пошла в магазин за хлебом. Был чудесный весенний день. Моя душа пела от восторга, от осознания себя самой красивой и счастливой! Ноги не могли идти спокойно.
– Побежали? – предложил мне одноклассник, гордый тем, что идет рядом с самой красивой девочкой нашего двора.
– Побежали! – гордо дернула я своим огромным бантом.
Мы рванули. По асфальту, по лужам. Бегала я хорошо, спортсменка была прирожденная. И обогнать одноклассника было для меня парой пустяков. И я обогнала. И в тот момент, когда это стало очевидно, одноклассник собрался с силами, сделал рывок и… толкнул меня в спину! Я перелетела несколько луж и, распластавшись, плюхнулась в самую большую из них всем своим огненно-красным новым пальто, зачерпнув всю наличествующую в луже угольную карагандинскую грязь.
Пальто было безнадежно испорчено, хоть мы с перепуганным мальчиком и пытались его спасти, замочив в ванне с водой у него дома.
Моя нежная душа пропечатала этот момент в своих тайниках: мужчины не терпят соперничества женщины! И в решающий момент, в момент, когда ты меньше всего этого ожидаешь, когда находишься на самом пике счастья, способны нанести удар в спину, смешав тебя с грязью…
Пятое воспоминание трагикомичное. Мне было уже 8. Врачи уложили меня в больницу, считая, что мне непременно следует лечить печень. Но почему-то вместо печени эскулапы вознамерились вырвать мои гланды. Эту новость мне сообщила мама. Я в тот момент сидела на подоконнике больничной палаты и любопытствовала, когда родительница заберет меня отсюда. Но вместо радостного известия об освобождении от пут докторов я услышала, что завтра меня будут оперировать. Врачи посчитали, что мои гланды угрожают моему сердцу, в котором им слышатся шумы.
Новость свалила меня с подоконника. В палату. Со мной началась истерика. Принять умом, что часть моего естества завтра будутвырывать, я не могла. Я швыряла по палате кровати – и откуда сила бралась? Я выворачивала в больнице все вверх дном, бунтуя против тайно замысленного в отношении меня насилия. Именно это больше всего меня и возмутило, именно нечестность взрослых дядь и теть, а не страх лишиться несчастных гланд, из-за которых я часто болела ангиной. Если бы со мной по-человечески, по-взрослому поговорили врачи, объяснили бы, что после операции я смогу ведрами есть мороженое и сколько угодно сосать сосульки, я бы с радостью сама открыла им свой рот. Но у взрослых не хватило ни ума, ни уважения к личности ребенка. И поутру они разве что не взламывали мой рот, вставляя между челюстями толстую иглу-распорку, чтобы я не мешала им выдирать мою собственность.
Меня связали по рукам и ногам, две медсестры всем своим грузным теломлежали на моих тонких запястьях, потому что я умудрялась выворачивать кисти рук и щипать противных медсестриц. Одна из них стояла сзади и цепко держала мою голову, которую я норовила отвернуть в сторону. Еще одна, сидя на корточках, крепко держала меня за связанные ноги, которыми я норовила поддать под зад доктору. Все были при деле. И исполняли клятву Гиппократа с энтузиазмом и удовольствием.
Рвали гланды на живую. В войну в госпиталях раненым хотя бы наливали перед операцией стакан спирта, надо мной же издевались без какой бы то ни было анестезии.
После операции я лежала в кровати и тупо смотрела в потолок. Не было ни мыслей, ни чувств. Вместо меня был робот, автомат, который начал действовать сам по себе.
Вот он встал с постели, вышел в коридор, зашел в уборную, где на полу стоял добрый десяток детских горшков, которые нянечки не успели опорожнить и вымыть. Робот заглянул в несколько горшков, выбрал самый увесистый, подошел к окну, открыл его и… Да, именно так. Выбросил в окно. Вместе с содержимым. Потом также спокойно и невозмутимо вернулся в палату и лег на кровать. Закрыл глаза и перевел дух. Он отомстил. Как мог и как умел. Подручными средствами. За то, что его пытали. За то, что его личность, его сущность, его душу распяли в операционном кресле. Распяли, не посчитав нужным хотя бы поставить в известность об этом намерении.
Робот лежал в постели, а за окном больницы, в ее коридорах стоял нечеловеческий крик. Через несколько минут в палату ворвался главврач со свитой «пытальщиков». Выяснилось, что горшок с содержимым упал аккурат на голову одной дамочке, которая в тот момент проходила под окнами больницы. И теперь дамочка грозится пересажать в тюрьму весь персонал больницы вместе с ее пациентами.
Главврач учинил в палате допрос. Больные, такие же по возрасту девчонки, что и робот, тряслись от испуга и никак не могли вспомнить, выходил кто-нибудь из палаты в последние 5 минут или не выходил. Потом вспомнили: никто не выходил. Робот между тем не подавал голоса. Ему нельзя было подавать его еще сутки после операции. Поэтому его никто не спрашивал, а наоборот все смотрели на него с сочувствием и даже принесли мороженое, чтобы горло быстрее зажило. Робот съел, не сказав спасибо. Робот не мог благодарить людей, которые причинили ему физическую боль, но главное – нравственную.
Никто так и не узнал, чьих рук было то дело. Мама моя сердцем чувствовала, что так поступить могла только ее дочь. Которую нельзя, категорически нельзя подло загонять в угол.
С высоты прожитых лет мне в этой ситуации более всего жалко ту дамочку. Но если привязать случившееся с ней к законам вселенной, то происшествие выглядит даже философским. Ибо, как известно, случайностей не бывает. И если именно эта женщина должна была получить по голове, то она и получила. Если бы ей не суждено было испытать такого рода шок, она прошла бы по другой стороне улицы или проскочила под окнами больницы с большей скоростью, чем с четвертого этажа летел горшок. Или, наоборот, тормознула бы на подступах к источнику опасности. Но произошло то, что произошло. И проделано было именно моими руками. Руками девочки, которую глубоко оскорбили. Причем, мой выход из палаты остался не замеченным никем. Ни больными, ни нянечками, которые постоянно шныряли по этажу, ни ребятами из других палат, которых вечно на горшках сидел косой десяток. Обстоятельства сложились так, чтобы очистить мне поле боевых действий и сокрыть от глаз саму меня, которой по неведомому мне высшему замыслу надлежало наказать дамочку, врачей, и самой получить урок. Выдрав вот так безапелляционно мои гланды, врачи словно говорили мне: смири гордыню, учись терпеть, чем раньше познаешь боль, тем сильнее будешь…
Но главное воспоминание касалось наших задушевных разговоров с мамой. Почему-то я, едва научившись говорить, настаивала, чтобы мать снова и снова рассказывала мне историю моего зачатия и рождения, при этом, повторяя поминутно, что я сама ничегошеньки не помню! – Да как же ты помнить-то можешь? – дивилась мать. – Когда это новорожденные память имели?
Я в ответ злилась и требовала от матери полного рассказа:
– И нечего меня сказками кормить про аиста и про капусту! Я знаю, откуда дети берутся!
Мама поначалу приходила в ужас, усматривая в словах дурехи-малышки пагубное влияние улицы. Но вскоре смирилась с мыслью, что со мной следует общаться как со взрослым человеком, который просто зрелый не по годам.
Втайне мать гордилась своим «произведением», считая, что ее чадо – награда за терпение и добродетельную жизнь. И, глубоко вздохнув, снова и снова вспоминая дела давно минувшие, не переставая удивляться, почему меня ТАК интересует эта тема и особенно мое имя.
– Папа так хотел. «Родится девочка, назовем ее Леной». И мы с ним всегда спорили на эту тему. А ты при этих спорах всегда замирала и куда-то пристально вглядывалась, словно что-то хотела высмотреть вдали, – рассказывала взрослеющей мне мама и удивлялась. – Да что ты так волнуешься?
Я резко обрывала мать, требуя продолжения рассказа, который она снова и снова в деталях воспроизводила мне, заново проживая ту ситуацию, которую ей совсем не хотелось помнить.
– Мы посреди улицы стали с отцом спорить, выбирая тебе имя. Я предлагала модные тогда варианты – Таня, Наташа, Оля. Но папа твой стоял на своем: «Лена – и точка!». В этот момент ты как начала шевелиться в животе! Такой бунт подняла! Живот аж ходуном заходил. Думаю, все, умру вот здесь, и никто не поможет. Отец твой как рванул за «скорой»… Уж как я оказалась в роддоме, не помню даже. И рожала трудно. И за тебя боялась, недоношенной ты была, восьмимесячной. И родилась малюсенькая, 2 кг весом, синяя и не кричала. Врачи думали, что ты уже не жилец. И хотели отнести тебя втайне от меня в палату с новорожденными, которые доживали свои последние минуты. –
– А дальше?
– А дальше… ты вдруг закричала. Да так пронзительно, что и я испугалась.
Мама замолчала. А я, 6-летняя девочка, неожиданно взрослым голосом, таким, что мать вздрогнула, и на лбу у нее выступил холодный пот, произнесла:
– Я так закричала, потому что вы назвали меня неправильным именем! Поэтому твой живот и ходил ходуном, когда папа предложил назвать меня Леной. Это не мое имя! Чужое! И там, в твоем животе, я испугалась, и хотела вам сказать, что меня зовут не так, что мне очень важно, чтобы у меня было правильное имя! Я испугалась, что ничего не получится, и стала толкаться, чтобы выйти наружу. А когда вышла, то все, все забыла…
Я чеканила слова, а мать в шоке смотрела на меня:
– Что не получится? Что значит испугалась? Не может плод соображать! А для того, чтобы забыть, нужно сначала что-то помнить… И мозги иметь.
– Оставим это, мама. Лучше, расскажи, что было дальше. Я должна все знать, все вспомнить! И не говори мне, что первым моим словом было слово «писать», я это и сама хорошо помню.
– Ну, что за ребенок такой! Нечего мне больше вспоминать!
Я начинала нервничать. Я не понимала, что именно и зачем мне так нужно вспомнить из происшедшего в ту ночь, когда мне было позволено материализовать себя из человеческого зародыша. А матери и в голову не приходило рассказать про три падающие звезды и услышанный голос. И только спустя 30 лет, когда и мой брат получил такой же сигнал о дне зачатия своего сына и его будущем имени, она вдруг вспомнила все. Господи, как поздно!..
Последнее яркое воспоминание детства относится к моменту, когда я тонула. Мне было 9 лет. У меня уже родился брат, вскоре погиб отец. Я сторонилась людей, лишь исподволь наблюдая за ними и вслушиваясь в голоса так, словно в отдельных случайных репликах надеялась уловить нечто важное для себя.
Однажды на улице я краем уха зацепила чей-то чужой разговор:
– А ты бы смогла начать свою жизнь сначала? Все – заново!
Фраза вызвала в груди сильную щемящую боль. В голове закрутились какие-то непонятные фрагменты событий то ли со мной, то ли с кем-то произошедших или грядущих. Во мне началась такая буря…! Я оглянулась, чтобы посмотреть, кто вызвал во мне столь сильные эмоции. Но ни за спиной, ни вообще в радиусе нескольких метров от меня не было ни души. Я одна стояла посреди улицы. И от этого стало еще тоскливее и страшнее. Были ли то люди, провалившиеся сквозь землю, или еще кто-то, я не знала. Но над смыслом фразы думала не раз. Как это: все сначала? С какого начала? И где оно? Но потом иные детские переживания заполнили мою жизнь, и тот вопрос был задвинут глубоко в тайники души.
Я легко отзывалась на имя Лена, но своим его не считала. Я не понимала, почему мне так важно, чтобы меня звали по-другому. Я пыталась определить свое имя, вслушиваясь в звучание других женских имен. Но не екало сердце, не замирало, не вибрировало в резонанс с популярными Олями, Светами, Танями, Наташами. И от этого было тоскливо.
В тот жаркий летний день мать с сослуживцами поехала купаться на озеро. Местечко называлось Спасск. А озерцо – Спасское. За несколько километров в диаметре была голая казахстанская степь.
Два подвыпивших маминых сослуживца решили поплавать на автомобильной камере. Подогнали ее к берегу озера, сели, позвали детей – меня и дочку одного из сидевших на камере весельчаков. Я с радостью взобралась на колесо, и мы отплыли на середину озера. Мужики между собой о чем-то заспорили, стали толкаться, и мы с девчонкой полетели в воду. Я строго горизонтально пошла на дно, от неожиданности даже не пытаясь выплыть. Только глотала воду и опускалась вниз. Справа от меня колыхались камыши, слева плыли мелкие рыбки, вверху отчетливо виднелась кромка воды, а за ней – небо и яркое солнце.
– Господи, а ведь умирать совсем не больно! – это была последняя мысль, которая пронеслась в голове. И я спокойно закрыла глаза.
Моя душа взмыла вверх и обозревала происходящее на берегу. Мать бегала вокруг озера и кричала не своим голосом. Мужики выловили из воды девчонку, мою коллегу по несчастью. У той были косы, ухватить за них и вытащить тонущую оказалось несложно. Я носила стрижку. И утонула несколькими метрами дальше, чем меня искали. Внезапно я рядом услышала голос:
– Ангелина! Я здесь!
Моя плавающая в небе душа затрепетала. Ангел?! Ну, конечно, кто же еще? Я увидела, как словно из-под земли на трассе появилась «скорая» и устремилась к озеру. В этот момент моей души коснулось чье-то теплое дыхание:
– И я с тобой! Я тоже покинул тело.