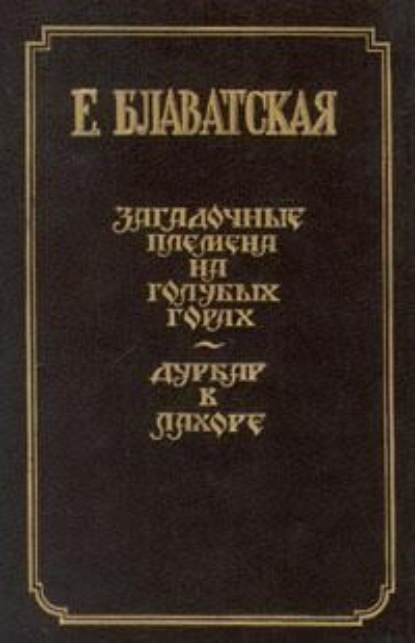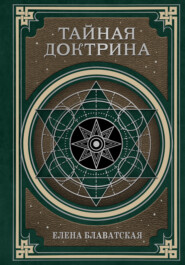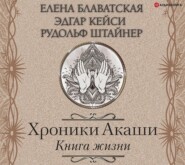По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дурбар в Лахоре
Год написания книги
1856
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Видно, прав К.Н. Леонтьев: известная степень лукавства в политике есть обязанность,[19 - См. «Русский вестник», март 1879 г. «Мои воспоминания о Фракии».] и англичане, стало быть, правы.
Мы оставались в Амритсе до дня девалли. 2 ноября часов в 6 вечера мы отправились через кантонемент в город к храму, центру иллюминации. Кроме Бомбея и Калькутты, города Индии, конечно, не похожи на другие города вселенной. Обитаемые англичанами местности или кварталы даже не называются городом, а Cantonement, в отличие от Черного Города или той части городов, где обитают презренные их экс-владетели, «сыны почвы». А города последних – не более и не менее – обыкновенные азиатские города, и кроме своих исключительных, несокрушимых памятников древности, все на один покрой. Мазанки-сакли без окон и дверей гнездятся под боком пестро расписанных хором с претензиями на название дворцов; кривые избушки на курьих ножках теснятся, валятся друг на друга, перелезают через стены и крыши своих соседей, словно спеша на приступ, и наткнувшись на глухую стену настоящего дома, прилипают к ней, заглядывая через головы нижних рядов на узкую улицу и как бы хвастая перед прохожими своими вечно развешенными на крышах лохмотьями. Эти улицы, где редко могут проехать рядом два экипажа, обыкновенно обрамлены двумя рядами лавчонок, где продается все, от совести до идолов английской мануфактуры и от венецианских настоящих кружев, под грудой лука и бананов, до запрещенных в Англии сочинений Анни Безант, третирующих о мистериях современной физиологии. Но зато так называемые Cantonement в городах, как Аллахабад, Канпур, Амритса, Лахор и прочие, совсем даже не похожи на города… Это просто загородные части индусских городов, построенные большей частью после мятежа. Лет 30 тому назад почти возле каждого города был джунгли, или лес, где спасались отрешившиеся от света факиры и святые люди. Набравшись страху по усмирении мятежа, англичане всех их повыгоняли, расчистили глухо заросшие рощи, разбили в них длиннейшие широкие аллеи и выбрали промежуточные чащи местом своего жительства. Можно кататься по целым часам по ровным чудным аллеям, осеняемым вековыми деревьями, и не увидеть ни одного жилища. Только издали, и от места до места, мелькают перед нами по бокам дороги белые двойные столбы с именами тех, которые живут за несколько сот сажень за ними. Чтобы добраться до них, надо въехать в эти бездверные ворота, и только тогда среди тенистых и обросших мохом дерев вынырнет перед нами белый, окруженный верандами «бунгало». Скрываясь от жгучих смертоносных лучей свирепого солнца, эти дачи в двух шагах еле заметны из-за своих густых шатров переплетенных ветвей. Под навесами гигантских лиан и других ползучих растений, они смеются и над жарой и над солнцем… Оно здесь бессильно, и только мигает своими огненными глазищами сквозь зеленую сетку густой листвы. В Индии не жара, а луч солнечный даже во время холодного сезона чаще всего мгновенно убивает европейца.
Солнце уже почти спустилось за горизонт, когда мы выехали из нашего загородного бунгало, хотя нам приходилось ехать мили три по одним аллеям Кантонемента. Но если зной еще и в ноябре нестерпим днем, то зато ничто не может сравниться с прелестью октябрьских и ноябрьских вечеров в Индии… Воздух был пропитан ароматом растений, и целые мириады вечерних разноцветных мотыльков и мушек кружились радужными тучами в потухающих лучах дня. По сторонам аллей – озерки и канавы, по черному зеркалу которых расстилались бледно-розовым ковром плавучие чашки лотосов, привлекая целый рой светящихся жуков и мушек… Но еле заискрились в быстро сгущающихся сумерках их фосфорические блестки, как по окраинам дорог стали зажигаться другие огоньки – плошки наступающей иллюминации девалли. От этого дня туземцы индусы считают свой новый год. Темные силуэты «священных факельщиков» уже стали появляться между деревьями, и их группы делались с каждою минутой гуще и многочисленнее. Тихо, неслышно перебегая своими босыми ногами, они мелькали как ночные лешие под кустами над листовой нижних веток, на крышах домов. И всюду, где только не появлялась черная рука с протянутым жезлом, внутри которого горела пропитанная кокосовым маслом священная трава «кузи», там зажигалась, как огненная точка, плошка, вспыхивал яркими цветами китайский фонарь, загорался факел… В десять минут времени запылал, как днем, целый город со всеми его окрестностями… Мы знали, что в эту минуту освещается с одного конца до другого вся порабощенная, но все еще не потерявшая веры в своих богов Индия…
Но где найти слова, достойные описать чудное, волшебное зрелище иллюминированного от купола до фундамента Золотого храма и всего священного сквера сикхов. Даже англичане пришли в этот год в восторг, и их самые суровые газеты объявили, что в продолжение многих лет ничего подобного иллюминации Амритсара в 1880 году не видела Индия! Ждали вице-короля, но он приехал лишь несколькими днями позже, и ему приготовили другую иллюминацию. Стечение народа было столь громадное, что нам пришлось оставить коляску и пробираться по базарным улицам среди слонов и верблюдов. Все до последней лачуги было залито огненным морем, и нашлось много сикхов фанатиков, которые втыкали себе горящие факелы в тюрбан, проталкиваясь сквозь народ словно передвижные блуждающие маяки… Когда мы достигли большой площади, с которой спускаются к озеру, то нашли всю левую сторону платформы занятою креслами англичан, за которыми почтительно топтались раджи и сирдари. Туда мы не пошли, а отправились прямо во двор храма, где нас ожидал Рам Дасс, который и повел нас на крышу дворца магараджи Ферикотского, пославшего приказание еще из Симлы приготовить нам на ней удобные сидения. Понятно, что сам вице-король не мог иметь места лучше нашего. Мы не брезговали туземцами и потому и имели случай насладиться этим редким, необычайным зрелищем лучше всех других европейцев: они видели перед собой один лишь освещенный храм и часть озера; а перед нами с нашей крыши открывался вид не только на храм и бхунгу акали, но и на весь священный сквер с его четырьмя набережными, на которых роились десятки тысяч пилигримов, спускавшихся от стен дворцов до самой окраины воды одною сплошною разноцветною массой тюрбанов и вышитых костюмов; они превращали в этот вечер сквер в один пестрый луг. То была картина удивительного великолепия, нечто поразительно волшебное! Мраморный мост был полон «божьими воинами», и нам было обещано, что мы увидим и часть тайных церемоний куков.
Быть может, нам совершенно справедливо возразят, что европейцы видали иллюминации и фейерверки получше этих. Не спорю. Видели и мы такие же в Версале, в Лондоне и в других городах, но не при такой обстановке. Конечно, отражающие миллионы огней озера и пруды Версаля представляют не менее волшебное зрелище; но если сравнить окружающие толпы французов в куцых пиджаках и цилиндрах, напоминающих колена печных труб на голове, с этим пестрым волнующимся морем тюрбанов и залитых золотом праздничных костюмов; липы и каштаны (нисколько не отрицая своеобразной прелести северной природы) с пальмами и гигантскою растительностью Индии; наконец, наверное, облачное небо Запада с этим чарующим глаза темно-голубым небом юга, то мой восторг сделается понятнее.
Перед нами, почти у наших ног, как бы в одно и то же время открывались сцены самых больших европейских театров с их «Африканками», «Аидами», «Королями Лахора» и tutti quanti разнообразных балетов с сюжетами из восточной жизни. Перед нами красовались самые великолепные декорации когда-либо виденные европейцами в природе. Прелестнейший храм среди озера, красота которого привлекает даже днем, вызывая восторженные отзывы туристов, а теперь являющийся в десять раз опоэтизированнее. С высокой же крыши нашего дворца все это вместе являлось просто каким-то фантастическим сновидением, в котором трудно было себе дать отчет, но которое охватывало вас чем-то непривычным, жгучим. С этой высоты перед нами являлись не только иллюминированные здания, будто из «Тысячи и одной ночи», и дворцы, но и загородные холмы и поляны. Словно выплывая из окружающей огненный центр сквера темноты, далеко расстилалась перед нами безбрежная панорама, убегая через крыши обрамляющих озеро дворцов куда-то далеко, за небосклон, по волнистому морю лесистых холмов и полян, где, наконец, перейдя постепенно всю коларатуру горячих тонов, от оранжево-бирюзовых, золотистых отливов и до бледно-розового тумана, она вдруг исчезала в дымчатой синеве пространства. А прямо перед нами горел жар-птицей храм на озере, черное зеркало которого рисовало в себе, умножая их до бесконечности, непрерывные огненные нити, раболепно очерчивающие узоры его, и барельефов, надписей, арабеск, как и сквозную замысловатую резьбу перил мраморного моста. Цветы, драконы, птицы, малейшее украшение в резьбе или живописи, отделявшееся пылающим контуром на темном грунте зданий, повторялись до самой глубины незнакомого с зыбью озера. Тысячи людей над водой, тысячи, опрокинутые под ее поверхностью. Они толпились на берегах озера, раскинувшись богатым пестрым ковром до последнего предела прибрежных ступеней, некоторые до половины в воде, все молчаливые и неподвижные. Тихо и безмолвно они только простирали смуглые руки к своему «Золотому Храму», и, погружая их одновременно в прозрачные струи озера, набожно окропляли себя священною водой, сулящею каждому из них вечную жизнь в Мокше.
Вдруг неожиданно взвилась огненным шипящим змеем первая ракета, за ней другая, третья, десятая, пока вся эта подоблачная артиллерия, шипя, треща и лопаясь, не спустилась звездным потоком на головы толпы. Тогда раздались неистовые крики восторга. В продолжение целого часа все, что когда-либо пиротехника производила под видом бураков, огненных колес, римских свечей и апофеозов с прибавкою туземных гербов, вензелей и священных эмблем Индии, все это трещало, грохотало, палило вокруг нас, оглушая до боли. Но толпа ликовала: особенно одно время, когда после пущенных во множестве с башни храма миниатюрных воздушных шаров с бенгальским огнем внутри, их стало почти невозможно отличить на небе от мириадов пылающих натуральных звезд… Суеверные массы, тысячи между которыми видели фейерверк впервые в жизни своей, поверглись в прах перед ними, твердо уверенные, что то – чудо, сотворенное их гуру Говиндом, а может быть и самим Нанакой. Некоторые даже собирали по земле упавшие полусгоревшие ракеты, чтобы сохранить их как святыню. Но вот мало-помалу, бураки стали редеть. Все глуше раздавались треск и лопанье и, наконец, все стихло… К великому горю акали прошлогодний апофеоз, в котором изображались мусульмане в фейерверочном пекле, побитые на земле и даже преследуемые в аду сикхами, был в этом году, вследствие жалоб обиженных магометан, запрещен правительством. На этот раз оно справедливо боялось возмущения. Вместо апофеоза явилось на башне Говинда какое-то удивительное колесо с вертящимся на нем чертом, и фейерверк прекратился, осталась одна иллюминация сквера.
Толпа европейцев, сидевшая на платформе возле башни с городскими часами, разошлась. Верхняя площадь тоже опустела, остались одни мы на крыше, паря над многотысячною толпой внутри священного сквера. После празднества предполагалась торжественная церемония куков, и наш акали обещал нам, что мы увидим их ход вокруг озера, во время которого они ежегодно возобновляют свои таинственные, никому не известные клятвы.
Мне уже довелось говорить об этой политической секте, которая под видом религиозных обрядов подливает масла в неугасимый в них против покорителей огонь мщения.[20 - См. «Письма из пещер и дебрей Индостана».] Несколько лет тому назад один изменник поклялся англичанам за большую сумму присоединиться к секте куков и узнать все их тайны, выдать их правительству. Он не успел в этом предприятии, так как скоропостижно умер. Но куки сделались еще осторожнее, и этот излишек осторожности и погубил многих из них. Желая доказать правителям, что их секта в сущности состоит из верноподданных, а не заговорщиков, а быть может, и потому, что несколько непокорных куков грозили своею поспешностью испортить дело, Рам Дасс Синг, их вождь и первосвященник, послал предупредить коллектора небольшого городка возле Умбалы, что некоторые из подчиненной ему паствы куки взбунтовались и грозят мятежом. Недолго думая и даже не спросив высших властей, коллектор приказал перехватать всех встречных куков, правых и виноватых, и доставить их к себе. Затем, поймав 92 человека, не дожидаясь даже над ними суда, он повелел привязать их к пушкам, выпалил из них и перестрелял всех в несколько часов.
Это не слух, а историческое в Индии событие, случившееся всего несколько лет тому назад, и известное всем и каждому. История вышла ужасная. Англичане перепугались не на шутку. Чтобы успокоить народное волнение, они тотчас же лишили коллектора места, выгнали якобы из службы и даже предали суду… На следствии, по их уверениям (поддерживаемым, конечно, англо-индийской печатью), они раскрыли какие-то сильно компрометирующие Рам Дасс Синга обстоятельства и воспользовались этим счастливым открытием: его сослали административным порядком в Рангун, на вечное заточение. Коллектора хотя и не могли оправдать, но успели так возбудить к нему симпатию английской публики, что последняя из кожи лезла, жертвуя большие суммы на подписку «бедному, пострадавшему за свою верность, чиновнику»; а через некоторое время ему дали отличное место где-то в Ярканде, в Кашгарии, куда его отправили чуть ли не постоянным посланником.[21 - Имя этого коллектора сэр Дуглас Форсайт (sir Douglas Forsyth) весьма известно в Индии, как и в Европе. Он еще недавно был в Ярканде и разъезжал по китайским границам; в настоящее время он только что издал с собственными комментариями, добавлениями и предисловием (перевод Е. Дельмара Моргана) книги полковника Пржевальского «От Кульджи, через Тянь-Шань, в Лобнор», с картой и планами.] Пострадал лишь один помощник коллектора, м-р Коуен (Cowen), которому пришлось, как козлу отпущения, уносить с собой в пустыню изгнания грехи британского Израиля. Рам Дасс Синг, хоть и под надзором полиции, но все еще, странное дело, живет в Рангуне. Но насильственно разъединив его с куками, англичане, к сожалению, не убили кукизма. Эта секта, словно многоглавая гидра, вместо одной потерянной головы имеет теперь их несчетное множество, считая по несколько вождей в каждом городе Пенджаба. Но кто их главный первосвященник, про то никто не знает. Дело о расстрелянных 92 куках было причислено англо-индийским правительством к разряду тех многих «неприятных, но неизбежных юридических ошибок», о которых оно, впрочем, мало заботится в Индии.
Однако нас ожидало сильное разочарование. В ту ночь, когда большая часть народа разошлась, куки начали совершать свой таинственный ход вокруг озера, но более этого мы ничего не видели. Во главе процессии шел высокий седобородый сикх, в длинной белой юбке и тюрбане, а за ним несколько сот куков. Процессия шла медленно и торжественно. Держа в левой руке бронзовую, странной формы вазу, старик кропил из нее правою рукою какою-то красной жидкостью в озеро, напевая на неизвестном диалекте стихи, которые и подхватывались при конце каждого куплета хором. Процессия скоро удалилась в один из набережных дворцов. Глухо и редкими урывками доносился до нас оттуда их грустный протяжный напев. Очевидно, программа изменилась, и наш акали не хотел или не мог сказать нам что-либо более на наш счет. Вокруг нас один за другим потухали огни, и скоро остались одни лишь яркие звезды над нашими головами. Подул свежий ветер, и на высокой крыше становилось очень холодно. Мы отправились домой.
Несмотря на все наши старания и расспросы, мы ничего более не могли добиться об интересовавших нас куках. Кто и что они такое? Мы знали, что они сикхи и индусы, но есть между ними, по-видимому, отрекшиеся от веры магометане. И откуда их название, этимологию которого никто не мог нам объяснить? На запад от Кашмира до реки Индуса, в горах обитает небольшое племя под этим именем. Но эти куки все не то китайские, не то тибетские магометане-шииты, о которых англо-индийскому правительству еще менее известно, нежели о пенджабских куках, кроме, разве, того, что даже кашмирцы (не говоря уже о соседних с ними племенах – бумбах, гуджерах и других) страшно боятся их чернокнижного знания, видя в них опасных колдунов и чародеев. Так что же имеют с ними общего пенджабские куки, эти заподозренные в политической неблагонадежности люди, и появившаяся всего несколько лет тому назад секта?
Проходя под окнами дома, куда удалились для окончания своих темных обрядов куки, мы снова услыхали их пение, но уже громкое и резкое, раздававшееся в глубокой тишине ночного воздуха, словно невидимая угроза. Мне почему-то пришла в голову сцена и хор из «Гугенотов»: «La benediction des poignards».
Глава 3
Дойдя до этой главы, нахожусь вынужденной прервать на время нить моего рассказа ради краткого пояснения. Для многих русских Индия – такой край земли, что не обрисуй я тверже не только обоюдные отношения покорителей с покоренными, но и эскиз самой страны, многие из моего пересказа о виденном и слышанном на диковинном дурбаре в Лахоре останется и темным и невыясненным…
Не имея ни малейшего притязания на непогрешимость мнения, особенно в политике, предлагаю следующие страницы просто как личные наблюдения, поверхностные, но в общем правдивые – за это ручаюсь. Слыша столько разговоров об Индии, как пришлось мне слышать их в Симле, с одной стороны, и столько же сдержанных жалоб туземцев – с другой, судя, наконец, совершенно беспристрастно по самим событиям, развивающимся прямо перед моими глазами, думаю, что два года постоянного пребывания в стране дают мне некоторую возможность судить о ней довольно правильно. Весьма мало посвященная в сокровенные таинства Калькуттского кабинета, еще менее интересуясь оными, все-таки полагаю, что иммакулатно белое не может показаться мне совсем черным или vice versa; тем более, что характер сношений между правителями и управляемыми до того ненормален, что всякому иностранцу бросается в глаза. В двух предыдущих главах я часто упоминала об этих удивительно страшных и ни на чем не основанных отношениях, также и в предыдущих письмах моих из Индии, и особенно в статьях: «Из пещер и дебрей Индостана», которые печатались в «Московских Ведомостях»; отношениях со стороны англичан донельзя презрительных и высокомерных, со стороны туземцев, иногда отвратительно подобострастных и робких.
Но каждый раз, когда разговор касается их обоюдных отношений, а я позволяю себе высказать мое искреннее мнение о несправедливости и жестокости англичан к туземцам, первые уверяют меня, что я ошибаюсь, ибо ничего не смыслю в их тонкой политике, а последние на мои умиротворяющие речи и слова утешения стараются доказать, что нет во всей Индии англичанина, который желал бы им добра. Весьма скоро я пришла к следующему заключению: обе стороны преувеличивают, одна свои великие добродетели и заслуги, другая – свою будто бы незаслуженную судьбу. Первые, вероятно, в силу мудрой пословицы, гласящей, что «с жиру собаки бесятся», приехав из Англии в Индию, как бы перерождаются; последние лично, положим, и не заслужили такой лютой судьбы, но Индия в общности несет теперь лишь тяжкое бремя своих вековых грехов: она сама сложила своим прошлым бедствия настоящего, и такое положение было неизбежно.
Замечательнее всего, что ни о деяниях англичан в Индии, ни о настоящем положении туземцев под британским игом в Англии ровно ничего не знают. До какой степени это верно, можно судить из следующего: едет образованный индус, отчасти отрешившийся от суеверных предрассудков как родины, так и касты, в Европу, – едет он в первом классе, одет уже не санкюлотом, а почти по-европейски, утирает нос платком, а не вилкой адамовою, манеры у него, как почти у всех туземцев, спокойные, даже изящные; да и образованием он стоит никак не ниже, а иногда и выше большей части его английских спутников. Невзирая на все это, его путешествие разделяется на два периода: период первый – до Адена, и период второй – от Адена до Лондона. От Индии до Адена, то есть до первой половины плаванья, англичане от него станут сторониться, они будут смотреть на него как на презренное существо «низшей расы», словом, игнорировать его присутствие, и он редко посмеет даже воспользоваться своими правами: сесть с ними за общий стол. Но раз за Аденом и не успел еще пароход потерять берег из виду, все и вся, словно по мановению жезла волшебника, изменяется!.. С индусом начинают заговаривать. Его уже не избегают, и случись там едущий с ним на одном пароходе в отпуск один из сановников Индии, даже и он, вероятно, заговорил бы с ним о политике, а супруга сановника благосклонно обратила бы его внимание на погоду. На обратном пути – то же. От Англии до Адена – рай. Но не успел еще стимер обогнуть раскаленные холмы Аравии и доехать до Баб-эль-Мандеба, как декорации снова изменяются: свободный британский подданный превращается в беззаветного английского раба, о каком в Англии и понятия не имеют!..
Это не выдумка, а еженедельно подтверждаемый факт. Так кого же следует в этом винить? Англию ли с ее равными для всех законами и учреждениями или же англичан, то есть англичан в Индии, что сильно изменяет вопрос… Конечно, англо-индийцев. Они одни в продолжение последнего двадцатилетия выработали в себе такие предрассудки в поблажку своему высокомерию и чванству. В Индии, где все раболепно преклоняются перед ними, эти два порока раздуваются в них пропорционально с зараженной климатом печенью; в Англии никто из них не посмел бы сознаться, с каким чисто азиатским деспотизмом и презрением он относится к индусам, да и не только в Англии, но и здесь каждый из них при всяком таком намеке открещивается от него, стараясь опровергнуть прямое обвинение. Иван кивает на Петра, а сам ни за что не сознается.
– И не стыдно вам так обращаться с бедными индусами… словно они бессловесные скоты? – спрашиваю одного весьма милого и доброго бритта, в доме брата которого я в то время гостила.
Милый бритт широко открывает голубые глаза и на его розовом лице изображается удивление.
– Как так обращаться? Разве я дурно обращаюсь?
– Да ведь не медалью же вы их дарите, третируя их при каждом случае, словно кастильский погонщик упрямого мула.
– Вы кажется ошибаетесь. За других не ручаюсь. Конечно, есть среди нашей колонии (т. е. английской) люди слишком, быть может, суровые с туземцами. Но я лично, нет, вы право, несправедливы!..
– Ну, а вчера, когда к вам пришел по делам этот старый рао бахадур[22 - Высокий туземный титул дворянина.] в ваш кабинет, и войдя в чулках, смиренно стал у дверей?… Ведь вы не только не посадили его, но даже и не подпустили на десять шагов.
– My dear friend! Вы рассуждаете, как женщина! – воскликнул мой приятель. – Визит старика был официальный, и я не имею права отклоняться в его пользу от раз принятой нашими администраторами мудрой политики: холодной сдержанности с туземцами. Иначе они и не стали бы нас уважать. Это политика отчуждения.
– Вероятно, совпадает с политикой сближения самого недвусмысленного характера? Разве вы не толкнули в моем присутствии вашего садовника, мирно занимавшегося своею работой на грядке, только потому, что он попался вам под ноги, когда мы шли по дорожке?…
– Это случилось нечаянно, – проговорил сконфуженный приятель мой, – иногда трудно бывает отличить их темную кожу от земли.
– Так, так. Ну а скажите мне, этот ваш черный садовник, британский он подданный или нет?…
– Да-а-а… конечно! – немного неохотно согласился мой собеседник, предчувствуя, вероятно, нечто предательское в неожиданном вопросе.
– И имеет одинаковые права, положим, хоть с садовником-англичанином?
– Да. Но к чему это? Я вас не понимаю.
– Так себе, любопытство иностранки и женщины. Я люблю делать сравнительные выводы… Только как вы полагаете… дав незаслуженную, да хотя бы даже и заслуженную, затрещину англичанину-садовнику… вы не рисковали бы получить сдачи?… Перед законом ведь ваш садовник был бы прав, а вы, как зачинщик, остались бы оштрафованы. Ну что, если бы индус, в свою очередь, как британский подданный дал бы вам… такую сдачу?
Мой приятель даже подскочил.
– Я… я заколотил бы его до смерти! Индус – британский подданный, но он не англичанин!..
В этом восклицании заключается целая поэма признания. Он как бы кладет печать на приговор над целою нацией и ее судьбой в настоящем, если не в будущем.
Что англичане – великая и могущественная нация, это знает всякий, известно каждому также и то, что Англия как нация не может не желать Индии как лучшей из своих колоний, если не добра в нравственном, то преуспевания в материальном отношении, хотя бы в силу пословицы, что «никто не станет выжигать собственного посева». И в этом материальном отношении она действительно делает все возможное для Индии, не жалея ни труда, ни денег. Труд этот, правда, вознаграждается из казны Индии. Но то, что Англия действует в этом эгоистично, не может изменить факт, что она приготовляет для Ост-Индии великолепное будущее, если только дитя переживет пору строгого воспитания; к тому же такое будущее, которое было бы немыслимо для этой заплесневевшей страны ни при могольских династиях, ни во времена самоуправления, так как предрассудки и вековые обычаи всегда преграждали ей дорогу к прогрессу. Много горя и мук перенесла в свое время великая Бхарата; но это горе сделало ее еще способнее к ожидаемому ее полному обновлению. Еще двадцать лет тому назад индус предпочел бы тысячу смертей стакану воды, поданному ему европейцем или в доме последнего, да и не только европейца, но мусульманина, парса или своего же индуса другой касты. Принимать жидкое лекарство, приготовленное в общей аптеке, – лекарство, в которое входит вода, считалось смертным грехом; сидеть рядом с соотечественником из другой касты равнялось исключению из своей, то есть вечному бесчестью. На лед и содовую воду смотрели с отвращением… а теперь и лекарство, и лед, и содовая вода, а особенно сеть железных дорог сделали свое дело. Под влиянием цивилизации, хоть и насильно навязанной народу, вековые предрассудки, погубившие Индию, сделавшие ее такою легкой добычей для первых искателей приключений, пожелавших завладеть ею, начинают постепенно оттаивать, как замерзшая лужа под солнечным лучом…
Безо всякого сомнения англичане совершили и продолжают совершать неизгладимые благодеяния для Индии; но, повторяю, для будущего, – никак не для ее настоящего. Они похваляются тем, что если бы они действительно ничего не дали ей, кроме своей защиты против мусульманского вторжения и помощи для окончательного подавления междоусобицы, то все-таки они сделали бы более для Индии, нежели кто другой, не исключая и самих индусов со времен первого магометанского вторжения. Положим, что Англия сделала и более. Но зато настоящее англо-индийское правительство поступает, как мачеха, теребящая пасынков за зубы и морящая их голодом потихоньку от мужа, если действительно оно во всем другом строго выполняет заданную им от него Home Government программу. К несчастью Индии, Англия за тридевять земель от нее, а англо-индийское правительство у Индии на шее и постоянно с плеткой в руках. Само собою разумеется, что туземцы не могут быть этим довольны и постоянно жалуются… Впрочем, хотя большинство их жалоб и справедливо, но во многом они виноваты и сами. Вместо того, чтобы из уроков прошлого извлечь пользу для будущего, они, словно страусы, прячут голову в песок, предаваясь горечи настоящего.
Поступай англичане по-человечески с туземцами, их власть проявлялась бы менее деспотически, не заставляла бы, конечно, индийцев так дрожать перед ними, но она упрочилась бы на почве Индии гораздо тверже, нежели теперь, любовью и благодарностью народной. Тихие и кроткие, большая часть туземцев готова лизать каждую приласкавшую их руку, благодарить за каждую брошенную им кость. Будь англичане менее свирепо-презрительны к индусам, поласковее с народом, их престиж, быть может, и уменьшился бы, но зато упрочилась бы и на будущее время их безопасность в завоеванной стране. А вот именно этого-то они и не хотят или же не способны понять. Они как бы совершенно забывают даже то, что знает каждый ребенок, что их престиж – один блестящий мыльный пузырь, безусловно зависящий от внешних, не подвластных им событий. Их власть прочна в Индии даже и с настоящей системой каст лишь потому, что туземцы питают странное суеверие к их победимости, не находя в ней и признака какой-либо Ахиллесовой пяты, а также и потому, что, по учению Кришны, они не смеют идти против «неизбежного». Фаталисты, они верят, что живут в Калиюге, «черном веке», и что им нечего ждать хорошего, пока этот век еще продолжается на земле. В этих двух суевериях, как в двух неприступных крепостях, хранятся безопасность и власть англичан. Но пусть где-нибудь крепко побьют британскую армию, и мыльный пузырь лопнет, поверье исчезнет в умах индусов, как грезы кошмара в минуту пробуждения.
В Индии, где только соберутся двое англичан, тотчас же раздаются жалобы на «дьявольскую неблагодарность черных чертей», а там, где остановятся два туземца, непременно посылаются жалобы на «черные замыслы белых притеснителей»… Взятые вместе эти жалобы производят на слушателя эффект дуэта «двух слепых» в оперетке этого имени. Обманывая Англию, быть может и бессознательно, насчет Индии, эти притеснители обманывают самих себя. Они поступают с туземцами, как с рабами и цепными собаками; и раб прибегает к единственному орудию раба – ко лжи и хитрости, а собака, лишь только сорвется с цепи, запустит ему зубы в шею. Под этим пагубным влиянием все нравственно хорошее в этом народе: чувство чести, долга к ближнему, благодарности, – все, все в нем вымирает и заменяется либо отрицательными качествами, полною апатией, или же самыми низкими пороками. Тридцать лет назад вы могли пойти к первому встречному меняле (он же и банкир), сидящему на улице в своей конуре, и смело оставить у него целый капитал, не взяв у него даже и расписки; вы могли уехать после того и, вернувшись через год-другой, потребовать его. И при первом слове банкир-меняла отдал бы вам ваши деньги, будь то хоть миллион.[23 - Это мне с горестью рассказывали некоторые прожившие всю жизнь свою в стране англо-индийцы, между прочим, мистер Ю., богатый англичанин, занимавший в продолжение сорока лет самые важные административные должности в стране.] В те блаженные дни слово индуса было свято, и его выгоняли из касты за малейший нечестный поступок… До переворота 1857 года расписки были почти неизвестны в Индии: довольно было одного свидетеля для какой угодно сделки. А теперь?
Теперь подкупные свидетели расплодились не сотнями, а тысячами. Индус проведет десять цыган. При старых порядках, заставив туземца взять в руки коровий хвост и принести на нем присягу, судья мог ручаться жизнью, что индус не даст на священном хвосте ложного показания; теперь, при новом судопроизводстве, их заставляют безразлично всех принимать присягу на «Бхагавадгите» (писание о Кришне), даже и тогда, когда свидетель вовсе и не верит в Кришну, а поклоняется Шиве или Вишну. «Коровий хвост», извольте видеть, «слишком шокировал врожденное в бритте чувство эстетики», – так объясняют эту перемену в судопроизводстве англичане. Но не от излишней ли заботы вознаградить Индию в эстетическом и артистическом отношениях так оконфузили ее в нравственном и экономическом?
А вот судите сами. Украсив, например, страну великолепными общественными зданиями, по большей части огромными замками и казармами, они дозволили такому памятнику, как двухтысячелетний Сарнаф, построенному еще до Александра Македонского, гнить и разваливаться сколько угодно. Направив свои созидающие силы к сооружению университетов, ратуш, клубов, масонских лож (в европейском вкусе) и повыгнав из всех этих учреждений, кроме первых, туземцев, они предоставили зато в полное распоряжение последних все сооруженные ими кабаки для сбыта испорченных отечественных водок, со включением дурмана, именуемого шотландским виски. Они насильно одели всю Индию в манчестерские произведения и разорили тем все бумажные и другие прядильни страны; заставили индусов молиться на богов бирмингамского изделия, резать шефильдской сталью; научили даже обжираться, напившись водкой, испорченными консервами, сгнивающими здесь в одну неделю, и вследствие этого умирать от холеры сотнями. Какой же им еще эстетики?
Справедливо заметил мне один индус, что европейская цивилизация, к которой туземцы не подготовлены и не способны оценить ее, действует на их страну, как роскошное, но ядовитое манценило, пересаженное в цветущий сад: оно губит своими роковыми испарениями все прочие растения. «Неужели это может быть месть? – спрашивал меня недоумевая этот молодой студент, – месть за последний мятеж?… Но ведь ни Индия вообще, ни мы, люди последнего поколения, не причастны к преступлению!.. Так за что же?»…
Да простят мне симлинские сановники за невольное подозрение… но в замечании бедного студента есть доля правды. Луи Жаколио это давно подметил: «Англичане перепугались, как никогда еще не пугались до того времени. Они никогда не простят Индии этого испуга», – говорит он в одной из своих книг. Мщение это, конечно, давно перешло в состояние бессознательности, и они мстят по привычке. Полагать, будто люди неотъемлемо умные в своей политике станут делать сознательно всевозможное, чтобы губить, а может быть, и потерять Индию, «драгоценный перл в венце императрицы», право, было бы слишком глупо! С другой стороны, они именно так и поступают, и мне не раз заявляли в дружеском разговоре англичане, прожившие долгие годы в Индии, знающие страну и ее жителей, как свои пять пальцев, и отрекшиеся от коронной службы вследствие одного отвращения к новой системе…
Несмотря на все старания и улучшения, на учебные фермы и ученых техников, судьба земледельческих классов двух третей народонаселения не улучшается, а с каждым днем ухудшается. Большая часть этих несчастных довольствуется пищей один раз в сутки, и какою пищей! Последний нищий в России отвернулся бы от таких яств, дворовая собака у скряги-жида ест лучше: горсточка полусгнивших круп (рис слишком дорог) или пучок завялых овощей с водой, – вот вся дневная пища кули!..
Бедный, горемычный индус кули! Есть ли в мире существо терпеливее и несчастнее его? Встает он до зари и ложится на мать сыру землю перед зарей, работая по шестнадцать часов в сутки за четыре анны,[24 - 10 сантимов.] а не то так и за пинки… и Бога-то у него нет, потому – некогда, а затем – неоткуда, да и не от кого занять Бога. Брамины отвергают горемыку как нечистого парию, и веды или из вед молитва ему строго запрещены. Даже падри перестали соблазнять его в христианство, с серебряною рупией в сжатом кулаке руки, предлагающей ему крест. Кули примет монету, и только что окропит святою водой падре, как кули пойдет и купив коровьего навоза,[25 - Навоз здесь дорог и продается на вес.] на приобретенные капиталы, вымажется с головы до ног в священном продукте, а затем воссядет идолом пред другими кули, которые станут на него молиться…
Обращение англичан с туземцами высших образованных классов холодно-презрительное, подавляющее, является здесь делом гораздо более серьезным: тем более, что образованные туземцы к этому не привыкли, да его и не было во времена Ост-Индской Компании.
Послушайте, что говорит о чувствах индусов к их правителям «Statesman», откровеннейший из лондонских журналов: «Не финансы Индии, – гласит газета, – причиняют нам главное беспокойство, а положение, до которого доведены массы населения нашим правлением, и безусловная низость нашего поведения в отношении к туземным владетелям. Мы ненавидимы как классами, бывшими до нас влиятельными и могущественными, так и воспитанниками наших же учебных заведений в Индии, школ и коллегий; ненавидимы за наше эгоистичное, полное отчуждение их от всякого почетного или доходного места в управлении их собственной страной; ненавидимы народными массами за все невыразимые страдания и ту ужасающую нищету, в которые ввергло их наше государство и господство над ним; ненавидимы, наконец, принцами за тиранство и угнетение их симлинским foreign office».
Эти слова были перепечатаны всеми туземными газетами и журналами без комментариев.
Так ли было при Ост-Индской Компании, которую выгнали из страны за последний мятеж? Нет, конечно, нет! Со всем ее эгоизмом, вымогательствами, жадностью и недобросовестностью, покойная Компания умела ладить с туземцами. Она не заставляла их чувствовать ежеминутно превосходство своего рождения. Туземцы сами преклонялись перед превосходством оружия и нравственной силы англичан и уважали их, тогда как теперь они лишь боятся и ненавидят их. В те дни, когда поездка в Индию была кругосветным плаваньем, авантюристы, отправлявшиеся искать фортуны за морями, делались настоящими англо-индийцами. Многие из них, родясь и умирая в Индии, прожив в ней безвыездно тридцать-сорок лет, не в гордой замкнутости, как делается теперь, а пребывая долгие годы в постоянном обществе туземцев, – так, наконец, свыкались с их образом жизни и даже мышления, что знали о нуждах Индии и сочувствовали им не менее самих индусов. В те блаженные дни они не только не презирали их, кичась перед туземцами своею белой кожей, но даже часто вступали в законные браки с туземками. Дрались они и с раджами и законными обладателями земель, которые они у тех отнимали во имя Англии, но с народом ладили и всегда были в дружбе. Но вдруг грянула беда непредвиденная. Удар грома 1857 года поразил страну, и все изменилось! С последними судорогами Делльи настал конец и пресловутой Компании… Храбрые авантюристы, но все же «джентльмены», распоряжавшиеся до той поры судьбами народов Индии, исчезли в вихре, вырвавшем с корнем как Могольскую империю, так и последнюю независимость сотен раджей. Индия была передана короне, и на место лихих авантюристов были присланы новые люди, и пошли реформы…