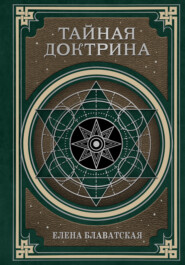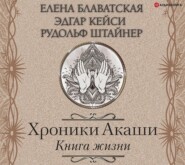По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Письма из пещер и дебрей Индостана
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это у вас чт? же за Орфей, чарующий и людей? – осведомились мы.
– Факир, вероятно: альгуджа обыкновенно призывает священных обезьян к пище. Некогда жившая на этом острове коммуна факиров теперь переселилась в старую пагоду, неподалёку отсюда в лесу. Там им более поживы от прохожих; оттого они и бросили остров…
– А может от того, что оглохли, – выразила невинное мнение проснувшаяся и подошедшая к нам между тем мисс Б*.
– Кстати об Орфее, – спросил такур, – известно ли вам, что лира этого греческого героя-полубога была далеко не первою, которая обладала способностью очаровывать и людей, и зверей, и даже самые реки? Некий китайский «музыкальный артист» (как их зовут в Англии) Куи,[131 - Какая случайность! Кюи – имя известного петербургского музыканта; только ни звери, ни люди не пляшут под его музыку.] живший да тысячу лет до предполагаемой учёными эры Орфея, выражается так: «когда я играю на моём кинге, то все дикие звери сбегаются и, очарованные моей мелодией, строятся в ряды предо мной»…
– Это вы где же читали?
– Мог бы вычитать даже в сочинениях ваших западных ориенталистов, так как это сведение находится и там. Но собственно я нашёл это в древней санскритской рукописи (перевод с китайского) второго столетия до вашей эры; оригинал же находится в древнем сочинении, известном под именем «Хранитель пяти главных добродетелей» – род хроники или трактата о музыкальном развитии в Китае, написанный по приказанию императора Хоанг-ти за несколько сот лет до вашей эры.
– Да разве китайцы когда чт? понимали в музыке? – рассмеялся полковник. – Я слышал и в Калифорнии, и в других местах заезжих артистов из Небесной Империи… Их музыкальная какофония способна с ума свести человека на месте…
– То же самое многие из вас, западных музыкантов, говорят и про нашу – как древнеарийскую, так и современную музыку индусов. Но, во-первых, понятие о мелодии – вещь совершенно условная; а во-вторых, есть большая разница между знанием музыкальной техники и применением этого знания к развитию мелодий, доступных всякому, – как образованному, так и необразованному – уху. В техническом отношении музыкальная пьеса может быть превосходна, а сама мелодия являться вполне непонятною и даже неприятною для непривыкшего к ней уха. Ваши самые известные оперы, например, кажутся нам, индусам, каким-то диким хаосом, каскадом неприятно резких, перепутанных звуков, в которых мы ровно ничего не смыслим, а только получаем, слушая их, головную боль. Я бывал не раз и в Лондонской и в Парижской опере, слушал Россини и Мейербера; я желал отдать себе отчёт в моих впечатлениях и слушал с величайшим вниманием. Признаюсь, я предпочитаю наши простые туземные мелодии всем произведениям ваших лучших художников в Европе. Первые мне вполне доступны, а вторых я вовсе не понимаю, и они так же мало меня трогают, как и наши национальные напевы вас. Но, оставляя всякие «напевы» в стороне, скажу вам, что не только наши предки, но даже и предки китайцев, конечно, не уступают вам, европейцам, если не в инструментальной технике, то в музыкальной «технологии» и особенно в отвлечённых понятиях о музыке.
– Арийские народы древности, быть может, и не уступают нам, но допустить то же самое в туранской расе китайцев трудно, – спорил наш президент.
– Но музыка природы была везде первою ступенью к музыке искусства. Мы предпочитаем первую, и поэтому держимся её веками. Наша музыкальная система есть величайшее искусство, если – извините этот кажущийся парадокс – избегать всего искусственного; то есть она отвергает в своих мелодиях все звуки, не входящие в реестр живых голосов в природа. Китайцы именно этого-то и не делают. Китайская система, например, содержит в себе восемь главных звуков, служащих как бы камертоном для всех других происходящих от главного звука тонов, которые и классифицированы под именами их родоначальников. Эти восемь звуков суть: метал, камень, шёлк, бамбук, тыква, глиняная посуда, кожа, дерево. Поэтому у них являются: металлические, деревянные, глиняные, тыквенные, кожаные, бамбуковые и каменные тоны. Таким образом и мелодии у них не может быть никакой, а выходит один сумбур: их музыка состоит из перепутанных серий отдельных нот. Их императорский гимн, например, есть ряд одних длинных, бесконечно вытягиваемых звуков в унисон. Но у нас всё своеобразно и самобытно; мы, индусы, обязаны нашею музыкой одной живой природе, а не неодушевлённым предметам. Мы, в высшем значении этого слова, пантеисты; поэтому и музыка наша, так сказать, пантеистическая. Но вместе с тем она и в высшей степени научная. С самой колыбели человечества арийские народы, вышедшие первыми из младенчества, стали прислушиваться к голосам природы и нашли, что обе, мелодия и гармония, соединяются лишь в одной нашей великой матери. В ней нет ни фальшивых, ни искусственных нот, и вот человек, венец её создания, пожелал подражать её звукам. В совокупности все эти звуки (по единодушному показанию ваших же физиков) сливаются в один тон, который мы слышим, когда умеем прислушиваться, в неумолкаемом шелесте листвы больших лесов, в журчании вод, в рёве океана и бури, и даже в отдалённом гуле больших городов. Этот тон – средний F, основной тон во всей природе. В наших мелодиях он нам служит исходною точкой, которую мы воспроизводим с первой ноты и вокруг которой группируются все прочие. Заметив, что верхние, нижние и средние ноты имеют каждая своего типического представителя в животном царстве; что козёл, павлин, бык, попугай, лягушка, тигр, слон и т. д. имеют, каждый из них, свою особенную ноту, наши предки стали прислушиваться и нашли, что всякая из этих нот соответствует одному из семи главных тонов. Так была открыта и основана октава. На подразделения же и размер их навели сложные звуки тех же животных.
– О вашей древней музыке, – ответил полковник, – и о том, изобрели ли что в музыке ваши предки или нет, я, конечно, ничего не знаю. Но, признаюсь, слушая пение ваших современных индусов, я никак бы не мог заподозрить их в знакомстве с какою бы то ни было музыкой.
– Это потому, что вы ещё никогда не слыхали настоящего певца. Поезжайте в Пуну и посетите «Гайан-Самадж»,[132 - По всей Индии устраиваются теперь музыкальные общества для возрождения национальной древней музыки. Одно из них Гайан-Самадж (Gaian-Samaj) в Пуне.] и только тогда мы возобновим этот разговор. До тех пор напрасно спорить…
– Музыка древних арийцев, – внезапно вмешался бабу за честь своей родины, – растение допотопное и почти исчезнувшее из Индии, но всё же достойное полного внимания и изучения. Это вполне доказано теперь моим соотечественником, раджой Сурендронат Тагором,[133 - Раджа Сурендронат Тагор – доктор музыки, кавалер великого множества почётных орденов, между прочим, от короля португальского и императора австрийского, за своё сочинение «О музыке арийцев».] который, по сознанию лучших музыкальных критиков Англии, твёрдо установил права древней Индии «считаться матерью музыкальной науки». Каждая школа – итальянская, немецкая и древнеарийская – родилась в свой особенный период, развилась в своём исключительном климате и при совершенно различной обстановке. И как всякая из этих школ имеет свою особенность, а для своих последователей и прелесть, так и наша школа не представляет собою исключения. Только в то время, как вы, европейцы, приучены к мелодиям Запада и хорошо знакомы с вашими школами, наша музыкальная система, как и многое другое в Индии, вам ещё совершенно неизвестна. Поэтому, осмеливаюсь заявить, что вы, полковник, и судить о ней не имеете права…
– Не горячись, бабу. Всякий имеет право если не судить, то расспрашивать о незнакомом ему предмете, иначе он никогда и не узнает истины… Если бы, – продолжал такур, – музыка индусов принадлежала (как говорит бабу) к столь же мало отдалённой от нас эпохе, как и европейская, соединяя в себе при том, как последняя, все выработанные в разные эпохи и различными музыкальными системами достоинства, то быть может знатоки и поняли бы и лучше оценили бы её. Но наша музыка принадлежит к доисторическим временам. За исключением разве древних египтян (которые, если судить по двадцатиструнной арфе, найденной Брюсом в одной из фивских гробниц, были тоже посвящены в музыкальные таинства гармонии), мы, индусы, являемся единственным знакомым с музыкой народом в те ещё времена, когда все другие нации на земном шаре боролись со стихиями за одно право своего существования. Мы обладаем сотнями санскритских рукописей о музыке, никогда ещё не переведённых даже и на туземные языки. В глубокую древность этих трактатов (от 4000 до 8000 лет) мы, индусы, несмотря на все отрицательные доводы ваших ориенталистов, вполне верим и будем упорствовать в этой вере, ибо мы их читали и изучали, а европейские учёные их пока и в глаза не видали. Таких трактатов, написанных в разные и самые отдалённые эпохи, у нас много, и все они согласуются в своих показаниях, доказывая нам яснее дня, что в Индии музыка была уже известна и приведена в систему, когда современные цивилизованные нации жили ещё на западе Европы как дикие племена. Но всё это не даёт нам однако права требовать, чтобы вам, европейцам, нравилась наша музыка, к которой не приучены ваши уши и духа коей вы неспособны пока ещё понять… Мы можем до некоторой степени объяснить вам её технику, дать вам некоторое понятие о ней как о науке; но создать в вас то, чт? арийцы называли ракти, или способность человеческой души воспринимать и очаровываться совокуплениями различных звуков в природе – альфа и омега нашей музыкальной системы – никто не может, как не могут заставить и нас упиваться мелодиями Беллини.
– Но почему же? – горячился полковник, – и что это за тайная сила такая в вашей музыке, которую способны понять одни вы, азиаты? Если мы с вами разнимся в цвете кожи, то ведь за то наш органический механизм один и тот же. Другими словами, та физиологическая конструкция костей, крови, нерв, жил и мускулов, из которой состоит индус, имеет столько же частей, связанных одна с другою по совершенно такому же плану или модели, как и живой механизм, известный под именем американца, англичанина или всякого другого европейца. Они, являясь на свет из одной и той же мастерской природы, имеют одно начало, как один и тот же конец: физиологически говоря, мы дубликаты друг друга…
– Физиологически – да, и даже психологически, если бы только не вмешивалось между нами воспитание, которое, что ни говори, выворачивает природу человека в ту или другую сторону, изменяя не только умственное, но и душевное направление его: в иных случаях совершенно погашая в нём божественную искру, в других – раздувая и даже превращая её в неугасимый маяк, служащий путеводною звездой его умственных способностей на всю жизнь.
– Так. Но всё же это едва ли может иметь такое сильное влияние на физиологию уха.
– Ошибаетесь опять. Если в физическом или скорее в физиологическом отношении рассматриваемый как человеческая машина индус ничем не разнится от европейца, то вследствие совершенно своеобразного воспитания, в умственном и психическом, особенно в психическом отношении, оба диаметрально отличаются один от другого, представляя как бы два различных вида в природе. Вспомните лишь, насколько цвет лица, сложение, способность к произрождению, жизненность и все наследственные качества чисто физических отправлений изменяются со временем вследствие климатических условий, пищи и обиходной обстановки человека (новейшая научная маска ваших материалистов, если не ошибаюсь, для удобнейшего игнорирования более отвлечённых тайн бытия), и вы получите ответ на ваш вопрос. Примените этот самый закон постепенного перерождения уже не к физическому, а чисто психическому элементу в человеке, и вы узрите те же результаты. Изменяя воспитание души, вы изменяете её способности. Там, где она прежде наслаждалась, усматривая нечто вполне недоступное иначе воспитанной душе, она уже не чувствует ничего кроме скуки и пред нею является один хаос… Вы, например, верите, – и верите лишь на основании доказанного вековым опытом, – что гимнастика, укрепляя мускулы, не только развивает тело человеческое, но и способна как бы переродить его; мы же, индусы, идём одною ступенью выше: мы верим, вследствие тысячелетних опытов и объективных демонстраций, что существует гимнастика и для души, как для тела. Это наша тайна, тайна униженных, порабощённых одной животной силой индусов, и проникнуть в эту тайну мы не дозволим никому, кроме горсти избранных, но она может быть доказана вам в своё время… Что постепенно одаряет глаз моряка зрением орла, акробата ловкостью и силой обезьяны, бойца – железными мускулами? Упражнение и один навык, скажете вы. Так почему же не предположить такую же способность и в душе человека, как в его теле? Разве только потому, что современная наука или совсем отвергает душу, не допускает и не признаёт в ней отдельной от тела личности?..
– Полно, такур. Вы-то уж должны бы знать, что я верю как в душу, так и в её бессмертие…
– Мы верим в бессмертие духа, а не души… Впрочем это нейдёт к делу. Итак, вы должны согласиться, что упражнением всякая дремлющая в душе человеческой способность может быть доведена до высшей точки своей силы и деятельности, равно как вследствие неупотребления и отвычки каждая такая способность может и заглохнуть, и даже окончательно исчезнуть. Природа так ревнива к своим дарам, что в нашей власти систематически развивать или убивать в наших потомках – и даже в продолжение весьма немногих поколений – какой угодно физический или умственный дар, просто вследствие одного упражнения или полного пренебрежения…
– Но ведь этим вы всё-таки не объясняете мне тайной прелести ваших национальных мелодий…
– К чему входить в подробности, когда вы сами должны видеть, что моё объяснение есть общий ключ к разрешению не только вашего вопроса, но и мириады других задач? Ухо индуса приучено веками схватывать один род комбинаций слуховых волн или атмосферических вибраций, а ухо европейца привыкло к другому роду; поэтому где душа первого наслаждается, там душа последнего не чувствует ничего, а уши страдают. Я мог бы на этом и остановиться, так как объяснение, кажется, столь же просто, как оно и понятно; но желаю пробудить в вас нечто более чувства удовлетворённого любопытства. То, что я вам сказал, разъясняет тайну лишь с её физиологической стороны. Оно является столь же понятным, как и факт, что мы, индусы, безнаказанно едим, например каждый день целыми горстями пряности, от одной крошки коих у вас могло бы сделаться чуть не воспаление в кишках. Наши слуховые нервы, в начале времён тождественные в своих способностях с вашими, переродились вследствие векового упражнения и сделались столь же отличными от ваших, как и цвет нашей кожи и наши желудки. Прибавьте к этому, что глаз наших кашмирских ткачей, мужчин и женщин, отличается способностью различать ровно 300 тенями более, нежели глаз европейца, – это по показанию ваших ученейших физиков и лионских фабрикантов, – и всякий поймёт, как легко разъяснение кажущейся проблемы. Навык, закон наследия, всё, что угодно… Но вы, прибыв из Америки изучать индусов и их религию, никогда не поймёте последней, если прежде не научитесь знать, как тесно, как почти неразрывно связаны все наши науки не с современным, конечно, ортодоксальным, невежественным брахманизмом, а с философией нашей первобытной религии Вед.
– Но что же, например, музыка имеет общего с Ведами?..
– Многое – почти всё. Как то было у древних египтян и китайцев, так и у нас: все звуки в природе, а поэтому и музыка находились в прямой связи с астрономией и математикой, то есть с планетами, знаками зодиака, с солнечным и лунным течением и с числами; а особенно с тем, в самом существовании чего ваши учёные ещё не совсем уверены, с акашей, или эфиром пространства. Учение о «музыке сфер» родилось здесь, а не в Греции, или Италии, куда его ввёз Пифагор лишь по окончании своих занятий с гимнософистами Индии. И, конечно, лучше кого бы то ни было, и до, и после него, знал этот великий философ, – единственный из западных мудрецов, открывший до Коперника и Галилея гелиоцентрическую систему мира, – насколько малейший звук в природе зависит от акаши и её соотношений. Одна из четырёх Вед, «Самаведа», вся состоит из пения. Это – собрание гимнов и мантр, петых во время жертвоприношений «богам», то есть стихийным силам. Понятно, что при знакомстве с естествознанием (а наши древние жрецы если и не были знакомы с естественными науками по новейшим методам химии и физики, зато знали много такого, до чего современные учёные ещё не добрались), жрецы подчас и заставляли стихийных «богов» или слепые силы природы отвечать их молитвам различными знамениями. В этих мантрах каждый звук, малейший переход рассчитан и имеет своё значение; а, имея причинность, должен иметь, конечно, и своё действие. «Учение о звуке, говорит профессор Лесли, есть бесспорно самое неуловимое, тонкое и сложное изо всей серии физических наук». А если кто когда уловил в полном совершенстве это учение, то, конечно, это древние «риши», наши философы и святые, оставившие нам в наследство Веды…
– Я теперь начинаю лучше понимать, откуда взялось начало всех мифологических сказок греческой древности, – задумчиво проговорил полковник. – Басни о свирели бога Пана и его «сиринксе», семитростниковой дудке, о фавнах, сатирах и даже о лире самого Орфея… Я знаю, что древние греки имели мало понятия о гармонии, и, конечно, не их ритмические декламации в драмах (вероятно, никогда не доходившие даже до высоты современного, самого простого речитатива), поддерживаемые слабою лирой да свирелью Пана, могли когда-либо внушить им мысль о всечарующей лире Орфея. Я сильно начинаю склоняться к мнению многих из наших известных филологов и учёных. Подозреваю, что Орфей, самоё имя коего ?????? или ???????, то есть темнокожий, свидетельствует, что даже между смуглыми греками он считался ещё смуглее их самих, – выходец из Индии. Таково было мнение Ламприера и нескольких других…
– Ваше подозрение, быть может перейдёт и в действительность когда-нибудь. Нет никакого сомнения, что самый высокий и чистый из музыкальных стилей древности принадлежит Индии. У нас все наши легенды приписывают магическое влияние музыке, как дару и науке, прямо ниспосланным на землю богами. И хотя мы вообще приписываем все искусства небесному откровению, но музыка стоит во главе всех прочих. Изобретение вины, инструмента вроде вашей гитары, принадлежит Нараде, сыну Брахмы. Вы будете очень смеяться, если я вам скажу, например, что наши древние ундгатри (певчие жрецы), обязанностью коих было служить при ядайи (жертвоприношении), знали кое-что из неведомых тайн естества в таком совершенстве, что посредством известных им комбинаций производили, безо всякого фокуса, заметьте, явления, которые во времена невежества принимались за проявление сверхъестественной силы. Явления, производимые «ундгатри» и «раджа-йогами», для посвящённых вполне естественны, сколько бы ни казались чудесными непосвящённым.
– Но разве вы… совсем, так-таки совсем не верите в наших духов? – приставала к нему мисс Б***. Она сильно побаивалась такура.
– Если позволите, совсем не верю.
– А… в медиумов?..
– Ещё менее, уважаемая леди. Но в медиумизм, для которого у нас существует испокон века другое название – бхута-дак, в буквальном переводе «постоялый двор для чертей»,[134 - Слово дак – трактир, постоялый двор, а бхута – злая душа умершего человека, которой вследствие её грехов преграждена дорога в мокшу – небесную обитель – и которая присуждена скитаться на земле. В философии индусов нет «чертей» или падших ангелов.] верю, как и во всякую другую психическую болезнь. О настоящих медиумах сожалею, стараюсь им помочь, когда могу; а шарлатанов глубоко презираю, редко пропуская случай изобличать таких…
Предо мною промелькнула сцена в притоне ведьмы у «Мёртвого города», катящийся с горы пойманный брамин-оракул и бегство старухи. Теперь для меня стало ясно то, чего я прежде не понимала: Нараян действовал по приказанию такура…
– Наши анга-тиене, – продолжал последний, – или «одержимые» этою неведомой для непосвящённого «силой», в которой спириты видят духов, суеверные видят чёрта, скептики – фокус и обман, а настоящие учёные – не открытую ещё наукой силу природы, всегда почти слабые женщины или дети. Вы стараетесь ещё более развивать в таких их страшную душевную болезнь, мы же ищем спасти их от этой «силы», о которой вы ничего не знаете и о которой поэтому не стоит теперь рассуждать… Мы, сыны Индии, десять веков находимся в неволе у разных и часто не стоящих нас народов… Но покорившие нас нации покорили только наши тела, не нас самих.[135 - Вендантисты или последователи философской системы Шанкарачарьи, говоря о себе, редко употребляют слово «я», а говорит, например: «это тело пошло», «эта рука взяла» и т. д., во всём касающейся физических или автоматических действий человека. «Я», «он» употребляется ими лишь касательно умственных отправлений. «Я думал», «я желаю идти» и пр. Тело в их глазах – одна шелуха, наружная оболочка внутреннего, невидимого человека, который и есть настоящий «я».] С нашими душами им никогда не справиться! Майяви-рупа[136 - Майявирупа буквально – тело иллюзии или майи, настоящее эго; камарупа – тело желания или воли, произвольно созданное нашим сильным желанием (обладающим творческой силой, по понятиям индусов) – двойник наш, который и является там, куда желание посылает его. При жизни таких внутренних тел у человека де столько же, сколько в луковице кожиц – каждое нежнее и тоньше, и каждое носит своё особое название, как обладающее полной независимостью от тела. После де смерти, когда земной жизненный принцип умирает вместе с телом, все эти внутренние тела соединяются во единое тело и, смотря по заслугам, либо поставлены на столбовую дорогу к мокше, на которой до окончательного освобождения от оков материи бесчисленное множество «станций», и тогда такая душа зовётся дэва (божественной); или же она делается бхута – злою душой, и мучится на земле между скитанием в невидимом мире и трансмигрицией в разных нечистых животных. В первом случае, – дэва не станет сообщаться с живыми. Единственная нить, связывающая её с землёй, – загробная привязанность к тем, кого она любила и над кем она простирает своё влияние и покровительство и после смерти. Любовь переживает все другие земные чувства, и дэва может являться любимым людям во сне, или иллюзией (майя) на секунду, и не иначе, так как тело дэвы начинает постепенно, с минуты освобождения из земных оков, изменяться: с каждым переходом из одной сферы в другую она теряет кое-что из своей объективности, делаясь всё неуловимее. Она де родится, живёт и умирает в каждой новой сфере или локе, которая становится всё субъективнее и чище; а в переходных состояниях она «дремлет в акаше» – в эфире. Наконец, освободясь от последнего земного помышления и греха – она становится ничем в вещественном смысле. Она потухает, как пламя, и, слившись в одно с Парабрахмой, живёт в вечности жизнью духа, о которой ни наши материальные концепции, ни язык не в состоянии создать себе представления. Но «вечность» Парабрахмы не есть «вечность» души. Последняя, по выражению веданты, есть вечность в вечности. Насколько ни была бы жизнь души святою, но так как она имела своё начало и свой конец, то и заслуги, как и грехи её, не могут награждаться или наказываться «вечностью Парабрахмы». Это было бы противно справедливости, «несоразмерно», – говорит философия веданты. «Один дух живёт в вечности, не имеет ни начала ни конца, ни окраин, ни границ, ни центральной точки». Дэва живёт в Парабрахме, как капля воды в океане, до будущего возрождения мира из пралайи (периодически наступающий хаос, разрушение, или, скорее, исчезновение всех миров из области объективности). С новым великим циклом, махаюгой, она отделяется от «вечного», притягиваемая жизнью в объективных мирах, как капля воды притягивается солнцем и конкретируется по обратной дороге на землю, из сферы в сферу, пока снова не опустится в грязь нашей планеты, и, пройдя малый цикл, снова не начнёт подыматься на противоположной стороне круга. Так она вращается в вечности Парабрахмы переходя от одной концепциальной меньшей вечности в другую. Каждая из этих «человеческих», то есть доступных уму, вечностей состоит де из 4 320 000 000 лет объективной и стольких же субъективной жизни в Парабрахме (где индивидуальность души, по учению веданты, вовсе не исчезает, как то полагают некоторые европейские учёные), то есть всего 8 640 000 000 лет. Эта цифра достаточна, по их понятиям, как для искупления самых ужасных грехов, так и для пожинания плодов добрых дел такого скоропреходящего периода, как жизнь человеческая. Одни души бхутов, когда в них угасает последняя искра раскаяния и желания изгладить грехи, испаряются под конец. Тогда их божественный, неумирающий дух, отделясь от души навсегда, возвращается к своему первобытному источнику, душа рассеивается на свои примордиальные атомы и эго погружается во мрак вечного бессознания. Её личность пропадает. Такова философия веданты касательно духовного человека. Поэтому индусы и не верят в возврата духов на землю, кроме случаев бхутов.] настоящего ария – свободна как сам Брахма; скажу более: для нас, в нашей религии и философии, он – наш дух – и есть сам Брахма, выше которого стоит один неведомый, вездесущий и всемогущий дух Парабрахма. Нашей майявирупы не покорить ни англичанам, ни даже вашим «духам». Ей никогда не быть рабой… А теперь пойдёмте спать.
XXIII
Бабуля. Один из спутников Е. П. Блаватской во время путешествия по Индии
Оставив Мальву и «независимую» территорию Холькара в стороне, мы вскоре опять очутились в чисто британских владениях, на железной дороге к Джабалпуру и Аллахабаду. В первом городе мы останавливались – всего на несколько часов взглянуть на знаменитые «мраморные скалы». Не желая потерять целый день, мы отправились на лодке, выехав в два часа ночи, избегнув таким образом жары и совершив великолепную прогулку на реке за десять миль от города.
Джабалпур (на территории Саугора и Нербудды, в 222 милях от Аллахабада), город, находившийся когда-то на махратской, а теперь на британской земле.
Окрестности Джабалпура прелестны и представляют величайший интерес для любителей естествознания. Пред геологом и минералогом здесь является обильнейшее поле для учёных изысканий в необыкновенном разнообразии формаций гор, доставляющих всевозможные роды гранита, а длинный ряд скалистых гор способен удовлетворить сотню Кювье, задав им работы на целую жизнь. Известняковые пещеры Джабалпура – настоящий костник допотопной Индии: они переполнены остовами чудовищных, ныне вымерших зверей.
Но далеко в стороне от прочих хребтов и совершенно особняком стоят «мраморные скалы» – игра природы, каких в Индии немало. На довольно плоском, поросшем густым кустарником берегу Нербудды, ни с того ни с сего, как бородавка на гладкой щеке матери-природы, вдруг вырастает странной формы длинный ряд белоснежных скал. Но какие это скалы!.. Белые и чистые, словно отшлифованные в капризную форму свою рукой человеческой, они прихотливо громоздятся одна на другой, скорее походя на колоссальный пресс-папье с этажерки Титана, нежели на скалы. Уже с полдороги, при извилистых поворотах реки, они стали минутами являться нам, то выглядывая, то снова скрываясь, дрожа в предрассветном тумане, как далёкий обманчивый мираж на небосклоне пустыни, пока наконец совсем не скрылись. Но вот пред самым восходом солнца они снова и совершенно неожиданно явились нашим очарованным глазам, явились вдвойне, на берегу и в реке. Подобно заколдованному замку, вызванному по мановение волшебного жезла кудесника, они вдруг выросли словно из-под земли на зелёном берегу Нербудды, отражаясь, как в зеркале, во всей своей девственной красе на спокойной поверхности ленивых, сонных вод рукава реки, вея на нас и тенью, и прохладой… А как дорого каждое мгновение предрассветной прохлады в Индии – знают лишь те, кто побывал, да пожил в этой огненной стране.
Увы! как ни рано отправились мы в путь, но по приезде к скалам нам недолго пришлось наслаждаться их прохладой. Едва успели мы причалить к волшебному берегу, предполагая среди этой поэтической обстановки прозаически напиться чаю, как взошло солнце и разом стало словно стрелять своими огненными лучами и по лодке, и по нашим злополучным головам; преследуя нас из угла в угол, оно наконец выгнало нас даже из-под нависшей над водой скалы. Из снежно-белых мраморные красавицы превратились в золотисто-пурпуровых, осыпая реку огненными брызгами, раскаляя прибрежный песок и ослепляя нам глаза… Недаром предание указывает, а народ видит в них не то жилище, не то превращение самой Кали, самой жестокой из богинь индийского пантеона. В течение уже многих юг злобная супруга Шивы ведёт ожесточённую войну со своим благоверным, который под видом «Трикутишвары» (трехголового Линги) предъявляет незаконные права на скалы и реку, патронессой коих состоит его богиня Кали.
Потому-то, вероятно, каждый раз, как дерзновенная рука ни в чём неповинных работающих в правительственных каменоломнях кули (индийцев) отсечёт кусок белого бедра богини, тотчас раздаются откуда-то словно подземные крики. И вот злополучный каменщик дрожит и колеблется между боязнью надсмотрщика и ожиданием мести кровожадного божества. Кали – патронесса не только скал, но и экс-тагов – удавителей, которые ещё недавно наводили ужас на всех одиноких путников. Много бескровных жертв принесли эти таги на мраморном алтаре Кали; страна изобилует леденящими кровь рассказами об их страшных подвигах, совершённых будто бы в честь богини. Эти рассказы, ещё слишком свежие в памяти людской, чтобы перейти в разукрашенные легенды, совершенно правдивы, тем более, что они вполне подтверждаются официальными документами судебных и следственных комиссий.
Если Англия когда-нибудь оставит этот край (а она сделает это не прежде, чем кость будет совершенно обглодана), то между немногими оказанными ею стране услугами на первом плане должно будет поставить полное искоренение тагизма. Под этим названием, как все ещё, вероятно, помнят, практиковался в продолжение более 200 лет самый хитрый и ужасный род человекоубийства в Индии. Как дознались, наконец, в сороковых годах, то было разбойничество ради грабежа. Извращённые понятия о значении Кали являлись лишь ловким предлогом: в этом случае богиня служила злодеям одной ширмой. Иначе каким же образом объяснить присутствие стольких мусульман в среде её поклонников-индусов? Большинством между «рыцарями румаля» или священного платка, коим удавливали жертвы, явились в день расправы магометане; самыми знаменитыми между их вождями были не индийцы, а сыны пророка, как, например, Ахмед, так что в числе последних тридцати семи переловленных полицией тагов находились двадцать два мусульманина. Понятно, что религия последних, не имея ничего общего с богами Индии, не играла в этом случае никакой роли: побудительной причиной был попросту грабёж. Правда, окончательный обряд посвящения в тагизм[137 - Слово «таг» (thug) означает просто вор или разбойник.] был совершаем в лесах пред ужасным, покрытым чётками из человеческих черепов идолом Бавани.[138 - Другое имя той же богини: тэги звали её Бавани.] До того времени таг проходил курс учения, состоявший в преподавании особенно трудного приёма набрасывать на шею не ведающей своей судьбы и заранее отмеченной жертвы румаль и душить человека так, чтоб он умер мгновенно, не испустив и малейшего стона. В этом обряде посвящения роль, которую приписывали богине, обозначалась известными символами, вроде тех, которые во всеобщем употреблении у франкмасонов: как, например, обнажённый кинжал, череп и даже воскрешаемый «гроссмейстером» ложи труп убитого Хирама Абифа, «сына вдовы». Кали служила не более, как сценическою обстановкой для других целей. Тагизм был тем же франкмасонством, с особенными знаками взаимного распознавания, паролем и своим непонятным непосвящённому жаргоном – только с преступною целью; между тем франкмасонство в наш век есть совершенно безвредное (кроме разве для карманов самих масонов) времяпрепровождение. Как масонские «ложи» принимают безразлично атеистов и христиан, так и таги принимали воров и разбойников всех наций, и даже говорят, будто между ними бывали англичане и португальцы.
Бедный поэтический Шива, несчастная Бавани! Какую гнусную роль изобрело для них народное невежество, олицетворив эти глубоко философские, полные поэзии и познания природы, типы! Шива, в своём первобытном значении – в одно и то же время всесокрушающая и всевозмещающая сила природы. Триада индусов – аллегорическое представление главных стихий: огня, земли и воды. Все трое: Брахма, Вишну и Шива, в своих различных фазисах, попеременно изображают эти стихии; но Шива бог огня гораздо более, чем Вишну: он сожигает и вместе с тем очищает, возрождая, как феникс из пепла, новые, полные свежей жизни формы. Шива-Сункарен разрушитель и Шива-Ракшака – возродитель. Он представляется с пламенем на левой ладони и с жезлом умерщвления и вместе воскрешения (Сулайютхам) в правой руке.
Мы посетили одного древнего старика, бывшего тага. Отбыв свой срок на Андаманской каторге, он вследствие искренних сознаний и каких-то услуг правительству был прощён. Вернувшись в родную деревню, он теперь безмятежно кончает дни, занимаясь верёвочным мастерством, – профессия, выбранная им, вероятно, в силу приятных воспоминаний об удальстве юности. Он посвятил нас в искусство «тагизма», сперва в теории, а затем любезно предложил, если мы купим ему барана, показать нам свою ловкость и на практике. Он желал доказать нам, говорил он, как легко, менее чем в три секунды, отправить на тот свет живое существо: вся тайна искусства заключается в ловкой и быстрой игре суставами пальцев правой руки. Чуть, бывало, раздастся условный и роковой крик совы (птица, посвящённая Бавани-Кали), будь там хоть двадцать ловко заманенных в западню путников – за каждым из них стоял уже таг. Одна секунда, и румаль уже на шее жертвы, а привычные железные пальцы тага крепко держат оба конца «священного платка»; ещё мгновение – суставы пальцев, сдавливая шейную кость, совершали известный артистический поворот – и жертва падала бездыханной! Ни стона, ни крика… Таги поражали с быстротой молнии. Задушенного тотчас же уносили в заранее приготовленную в лесу, часто под руслом ручьёв или временно высыхающих рек, глубокую яму и зарывали её. След так и простывал. А тридцать лет тому назад, когда ещё не было ни настоящих железных дорог, ни системы управления нынешней, кто знал или беспокоился об исчезновении отправившегося в путь мусульманина, либо индуса, кроме разве самых близких к нему людей? К тому же, страна наполнена тиграми, как видно, предназначенными судьбой отвечать за свои и за чужие грехи. Кто бы ни исчез, бывало, всё один ответ: «тигры съели!..»
То была удивительно искусно организованная система! Ловкие сообщники, брамины, рыскали по всей Индии, заезжая преимущественно в большие города, расспрашивая и разузнавая на базарах – этих общественных клубах азиатских народов – когда и куда кто отправляется в путь; стращали путников тагами и советовали ехать с такой или другой партией – переодетых тагов, конечно. Успев заманить несчастных, они предупреждали разбойников и получали за эту комиссию смотря по заработку. Долго эти неуловимые, невидимые шайки, рассеянные по всей стране и работающие партиями от 10 до 60 человек, гуляли на воле, но, наконец, попались. Следствие открыло ужасные, отвратительные тайны: к этим шайкам принадлежали богатые банкиры, брамины-жрецы, мелкопоместные раджи и даже несколько английских на государственной службе чиновников. За эту услугу Ост-Индская кампания воистину заслуживает народной благодарности в Индии.
Барана мы старому разбойнику не купили, а денег ему дали. Из благодарности он предложил было полковнику показать, на собственной его американской шее, все прелиминарные ощущения румаля, обещая, конечно, избавить его от последней, знаменитой «подвёртки». Но наш президент великодушно отказался…
На обратном пути мы остановились возле «Муддун-Махала» – другого беспричинного курьёза: это дом, построенный неизвестно кем и для чего, на огромном округлённом валуне. Этот камень (должно быть сродни кромлехам кельтских друидов) при малейшем к нему прикосновении качается во все стороны, вместе с домом и теми, кто в него полюбопытствует залезть. Мы, конечно, полюбопытствовали, и только благодаря бдительности ходивших за нами, как нежные няньки, Нараяна, бабу да такура сохранили в целости наши носы…
Удивительный народ эти туземцы! Не думаю, чтобы нашлась в природе такая штука, на которой бы они не могли усидеть с величайшим комфортом, только предварительно и слегка побалансировав. Вспрыгнет индус на колышек, на железную перекладину немногим толще телеграфной проволоки, подогнёт под неё все десять пальцев цепких и длинных, как у обезьян, ног, присядет на корточки, да и сидит себе по целым часам…
– Салам, сааб! – говорю я раз сидевшему наподобие вороны на какой-то жёрдочке, у взморья, почтенному нагому старичку. – Чт?, покойно тебе сидеть, дяденька?.. И не боишься свалиться?..
– Затем валиться?.. – серьёзно отвечал «дяденька», сплюнув в сторону кровавый фонтан разжёванного бетеля. – Ведь я не дышу, мэм сааб…
– Как не дышишь? Да разве может человек не дышать? – вопрошала я, немного ошеломлённая таким сведением.