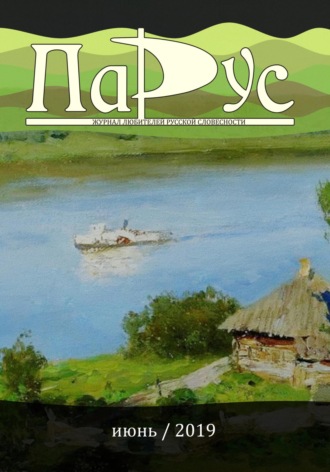
Журнал «Парус» №75, 2019 г.
Так думал я, так чувствовал в 1987 году, когда писал это стихотворение. А по кинозалам моей державы как раз в это время валом катился прославляемый прессой на все лады фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние», где сын выкапывал из могилы своего отца и, размахнувшись, бросал в пропасть…
СТАРУХА С РЮКЗАКОМ
Мы мчимся вдаль!..
Так верить мы хотим,
Когда в тепле, без копоти и пыли,
По вымытым проспектам городским
В стремительном летим автомобиле.
От свиста шин, от визга тормозов
Захватывает дух в земном полете,
А за окошком – грохот поездов,
Гул самолетов…
Но на повороте
Вдруг видим мы идущую пешком
Иссохшую старуху лет под двести,
Придавленную тяжким рюкзаком, –
И понимаем:
мы стоим на месте!..
Это стихотворение я сочинил в середине 80-х, и моя старуха олицетворяла деревенскую Россию – обобранную советской империей, без дорог, без продуктов, без молодежи, крепко пьющую. Я видел ее вблизи и хорошо рассмотрел, поскольку детство и отрочество провел в ярославской глубинке. А затем еще работал корреспондентом в сельхозотделе ярославской областной газеты – и объездил по редакционным заданиям всю губернию. То, что я там видел, разительно отличалось от парадных реляций.
До сих пор помню, как приехал летом 1982 года в одну отдаленную деревню, по письму читательницы. Московская дачница написала в газету, что ей жалко смотреть на ближайшую колхозную ферму: коров там якобы совсем не кормят. Автобусы в эту деревню не ходили вообще, я еле смог добраться на попутном лесовозе до какого-то села, затем километра два шел пешком. В деревне нашел вдребезги пьяного скотника, который напрочь отверг все обвинения и вызвался немедля показать мне и ферму, и сытых, благоденствующих коров. И даже поклялся накормить их еще раз, прямо при мне, поскольку кормов-то ведь навалом. С собой он зачем-то прихватил лопату и тачку.
Июльское щедрое солнце сияло над нами, мы шли по тропинке среди духмяного разнотравья. Скотник пошатывался, но упрямо шел вперед, катя перед собой тачку. Наконец мы вышли к длинной высокой гряде то ли темной сухой земли, то ли засохшего дерьма. Я сообразил: это был прошлогодний силосный бурт.
– Вот, – гордо провозгласил скотник, – это корма и есть! И щас мы их…
Он с размаху вонзил лопату в темную землю, чуть не упал, но все-таки удержался. Накопав полтачки темной земли, бросил лопату – и неверной походкой двинулся по тропинке меж высокой благоухающей травы. Через пару минут мы вышли на цветущую зеленую поляну, посредине которой стояло длинное серое деревянное сооружение, крытое толем. Дверей у коровника не было, вместо них на фасаде зияла широкая черная дыра входа.
– Щас я вас, – обрадовался скотник, увидев коровник, – щас я вам…
Зачем-то подхватив с земли здоровенную хворостину, он припустился чуть ли не бегом. Темная сухая земля подпрыгивала в тачке и разлеталась по сторонам.
Мы приблизились к серому сооружению – и вдруг в черной дыре я увидел яркие зеленые звезды. Точнее, зеленые звездочки, – их было много и они перемещались. Из дыры послышалось душераздирающее мычание – и я понял, что это не звезды, а глаза голодных коров…
Затем я нашел председателя, рассказал ему об увиденном. Тот быстренько куда-то смотался и вернулся с двумя бутылками красного вина. Мы пили прямо в правлении, в председательском кабинете, окна которого были распахнуты настежь в июльскую благодать. Мимо окна прошел странный человек, глаза его косили в разные стороны. Он мычал песню, отбивая такт чем-то вроде деревянной погремушки.
– У меня таких – половина колхоза, – со значением заметил председатель. – Ну, давай, корреспондент, за всё хорошее! Как хоть ты добрался-то до нас? А потому, что сухо – в дождливую погоду мы отрезаны от мира! К нам даже сам Лощенков не смог приехать, хотя и грозился. Лощенкова-то знаешь?
– Видел на совещании, – сказал я. – Ну, ты тоже сравнил! Он первый секретарь обкома, а я всего лишь корреспондент… Давай, будем здоровы! Но критику я все-таки на тебя напишу!
– Пиши-пиши, – кивнул председатель. – Тебе ответ из райкома дадут, как положено. Мол, меры приняты. Тебе ведь ответ надо?
– Ага, – сказал я. – А то какая же будет действенность у советской прессы? Без ответа никуда…
Критическую статью я написал. И ее даже опубликовали. И на редакционной летучке меня за эту статью похвалили. А через месяц из сельского райкома партии пришел ответ, что меры приняты. Правда, теперь уже не помню, какие именно.
ВЕРИГИ ЗНАНЬЯ
Вериги знанья, тяжкие вериги
Всю жизнь висят на избранных умах,
Что знают всё… Таинственные книги
Открыли им врага во временах.
Пусть сожжены таинственные книги
И вечный враг крадется к нам впотьмах,
Пусть дремлем мы… Но вдруг звенят вериги –
И будят знанье в избранных умах.
Звон тяжких цепей означает, что носящий их перестает быть неподвижным. Что-то начинает тревожить его; чьи-то тайные шаги издалека, сквозь расстояния и времена, вдруг доходят до его чуткого слуха. Никто не слышит этих шагов подкрадывающегося врага – только носящий вериги.
Он и сам-то порой не знает, что носит на себе и в себе эти незримые оковы, железы, цепи, – он просто живет так, как живет. Но вдруг сквозь свою и всеобщую дремоту слышит, как что-то совсем рядом с ним – на нем, в нем! – начинает тихо звенеть, тихо, но явственно. И одновременно что-то еще начинает происходить с ним: он чувствует, что для него пришла пора как-то отозваться, среагировать на далекую пока, но с каждым мгновением приближающуюся угрозу.
Какую угрозу? Он не знает.
И в самом ли деле кто-то крадется к нему, к его народу, к телам или душам родных ему людей? И этого он не знает.
Но не реагировать не может. Он не находит в себе сил, чтобы долее оставаться безмятежным.
С удивлением осознает он, что давно уже и начал потихоньку отзываться на неведомую опасность: ведь он уже привстал, повернулся, прислушался – а казалось бы, совершенно не о чем было беспокоиться, кругом царила тишина. Да она и царила – пока он не пошевелился, пока не зазвенели на нем его цепи…
Он начинает напрягать слух, всматриваться, вдумываться. Нет, не зря читал он когда-то таинственные книги – неблагонамеренные, запретные, гибельные, со смертельно опасными мыслями… оказывается, эти книги говорили правду. Они, эти сожженные по наущению врага книги, рассказывали о враге, о его повадках и слабых местах. И, значит, несли подлинное знание.
Но почему именно он, один он вдруг встревожился и задумался? Или это не так – и где-то рядом есть еще и другие избранники?
Он напряженно вслушивается – и вскоре различает где-то неподалеку такой же негромкий, но явно железный звон чужих цепей. И, встав в полный рост, идет впотьмах, сквозь расстояния и времена, навстречу незримому собрату.
Сейчас они вместе решат, как будут держать оборону.
КАРА
От кары Господней никто не уйдет,
Пусть поздно, но будет расплата.
Ответят однажды и град, и народ
За грех, совершенный когда-то.
Ответят за всё… Но поймут ли они,
Что им посылается кара,
Что смысла полны и блокадные дни,
И стоны из Бабьего Яра?
В этом стихотворении, написанном в конце 80-х, я развивал излюбленную свою тему – тему возмездия. Каждому однажды Бог воздаст по заслугам, и кара Господня настигнет не только каждого отдельного человека, но и каждый отдельный народ, и даже отдельный город. Ленинградская блокада с ее людоедскими ужасами (кстати говоря, именно там в те жуткие годы погибла сестра моей бабушки Лизы, тетя Шура) – это наказание Питеру-Петрограду за большевистский переворот, совершенный в этом городе. А кошмар Бабьего Яра – это Божье возмездие «избранному народу» за его изуверство по отношению к русскому народу в период так называемых «русских революций».
Только вот сестра-то моей бабушки в чем была виновата? Или Господь посылает великие кары не всегда прицельно и многие из нас просто «попадают под раздачу»?
ЗОНА ЗАКОНА
На зоне закона буза и бедлам:
Восстала людская орава –
И слуги закона по бритым башкам
Молотят дубинами права.
Швыряя проклятия в Бога и мать,
Бегут арестанты… А с вышек
Глядят правоведы – до них не достать
Ни криком, ни правдой из книжек.
Молчит правота, получившая в лоб
Тяжелым плакатом «Мы – братья!»
И роет в соседнюю зону подкоп,
Где правят пахан и понятья.
Мой знакомый, чекист на пенсии, однажды рассказал мне, как он и его коллеги боролись в «лихие 90-е» с криминальным беспределом в родной губернии.
– Видим, что ничего не можем сделать, не справляемся. Ну, тут и возникла идея: а давайте временно выпустим на волю главного беспредельщика, пускай порядок наведет. Сняли пахана со шконки, привели в нашу контору и говорим: братки твои ну совсем распоясались. Выпускаем тебя под честное слово – разберись, угомони! И он, в общем-то, действительно разобрался, угомонил. Правда, потом и сам под пулю попал…
Этот рассказ ничего особенно нового для меня не открыл: я всегда знал, что «правовое государство» в России бессильно против реальной силы. Сегодня, когда «контора» по факту является единственной настоящей силой в моей стране, беспредела на губернском уровне уже нет – и это радует. Но это же и убеждает в том, что словеса о «демократии», «народном волеизъявлении», «разделении властей», «независимом суде» и «торжестве закона» у нас ныне малосодержательны, мягко говоря. Что, как ни парадоксально, меня тоже, в общем-то, радует, ибо является, на мой взгляд, предвестьем грядущего отказа независимой России от духовного рабства – от штудий, опирающихся на фантазии Локка и Монтескье. Увы или ура, но на наших евразийских просторах попытки практического воплощения этих фантазий в жизнь обречены, как выяснилось в очередной раз, на неудачу.
«Падая в бездну, постсоветское общество уцепилось за чекистский крюк – и повисло на нем», – сформулировал не так давно другой чекист, гораздо более известный, чем мой ярославский знакомый. Образ верный и даже замечательный, но я хотел бы кое-что уточнить. Во-первых, мы не повисли, а падаем вместе с крюком. По крайней мере, в эту историческую минуту. Во-вторых, надо назвать имя бездны: средневековье. Да, технологически мы, может быть, и начинаем шагать в ногу с прогрессом, но что касается человеческих отношений в нашем социуме, то мы на всех парах летим сейчас именно в средневековье: в мир церквей и государей, «кормлений» и «индульгенций», «сеньоров» и «вассалов».
Я говорю это вовсе не для того, чтобы как-то унизить свою страну. Более того, я подозреваю, что это падение в средние века, совершающееся на моих глазах, является для нас почти неизбежным. Ведь Россия, по сути, так и не прожила свое Новое, буржуазное время: после катастрофы 1917 года мы были вынуждены целый век только выбираться из духовной трясины «марксизма-ленинизма». А теперь нам, вполне вероятно, предстоит прожить еще лет 100-200 в собственных «средних веках», медленно накапливая культурный гумус.
Но что же нас ждет не через век-два, а прямо завтра? Ведь вечно на чекистском крюке висеть нельзя… Что придет ему на смену? И какие еще метаморфозы нам предстоит пережить?
Рассматривая в своем стихотворении насильственный, а потому и нежелательный для меня вариант развития событий, я попытался предугадать логику движения главной идеи моего народа – великой идеи правды-истины, справедливости. Я задал сам себе вопрос: куда метнется правота из зоны закона, спасаясь от «дубин права»? И ответил так: не иначе, как к родному пахану. Тот, по крайней мере, не будет забивать людям головы выдумками Локка и Монтескье…
ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ
Гнутся ветки за окном – это ветер.
Ты смеешься и поёшь – это утро.
Ты молчишь и не глядишь – это вечер,
Это грубо я сказал и не мудро.
Невоздержан на язык? Это правда,
Но и ты ведь заводить мастерица.
Я влюблюсь в тебя опять только завтра,
А сегодня я хочу помириться.
Брось ты чашки протирать и стаканы,
Ведь и так они блестят – от природы.
Мы ведь старые с тобой стариканы,
Мы ведь вечные с тобой сумасброды.
Так зачем же нам играть в эти штуки?
Ну, стреляй в меня – стою, как мишень, я.
На плечах твоих лежат мои руки.
Это взгляда я прошу – и прощенья.
Супружеские ссоры, обвинения, примирения… это всё, по большей части, русские варианты. Тот, кто видел, как решается эта проблема на окраинах нашей империи, знает: внутренний климат в семье может быть принципиально иным. Я, знакомый с домашним бытом Армении, Узбекистана, Дагестана, могу это засвидетельствовать. Мужчина в сугубом большинстве тамошних семей – царь и бог, последнее слово всегда за ним. И если он сказал или сделал что-то не так (с точки зрения женщины) – значит, так было нужно.
И что замечательно: тамошняя женщина – совсем не раба мужчины, она не лишена права голоса. Просто она с детства четко знает, где ее место в семье, кто она в семье и зачем. И не посягает на большее.
Сыновей своих тамошняя женщина растит в этой же традиции. Поэтому, когда современные жительницы центральных губерний России упрекают мужчину с имперских окраин в «мужском шовинизме», он может с гордостью ответить: таким меня воспитала моя мать!
Не потому ли столь крепки армянские, узбекские, дагестанские семьи? Не потому ли дети из этих семей свято чтят своих родителей?
Конечно, миллионы современных русских женщин выльют на мою голову ушат нечистот за то, что я ставлю им в пример женщин другой национальности, одобряю семейные порядки, сохраняющиеся на окраинах нашего государства. Но это только лишний раз подтвердит вышесказанное.
Русские, впрочем, тоже не всегда были такими, какими стали сейчас, в мои времена. Моя покойная мама рассказывала мне, что в годы ее детства в их большой семье голос отца тоже всегда был решающим. Мать ее, моя бабушка Елизавета Ивановна, никогда не перечила мужу и любила повторять вполне устраивающую ее формулу семейного счастья: «Его святая воля». А воля деда моего была устремлена к труду на благо семьи, к созиданию добра и тепла. Ни разу в жизни он не ударил свою жену, а дети не слышали от него грубого слова. Правда, один раз, разгневавшись на какие-то слова супруги, дед опрокинул обеденный стол – но это случилось только однажды за шестьдесят с лишним лет их семейной жизни.
И я догадываюсь, почему это было так, а не иначе. Мои дед и бабка, родившиеся в конце XIX века и жившие в подмонастырской слободе, были воспитаны аурой того уклада русской жизни, который царил в нашей стране до 1917 года. Октябрьский переворот уничтожил этот уклад, взбаламутил гендерный ил, поселил в женских умах фантом равноправия. Еще лет тридцать-сорок «дооктябрьская» аура сдерживала развал, а потом, когда стали вымирать ее носители, русская семья полетела под откос…
ОЗАРЕНИЕ
Воют взахлеб голоса за бугром.
Видимо, близок решительный гром.
Но перед яростным гласом небес
Жду: всё должно озариться окрест.
Родина! Всю – от звезды до слезы –
Дай тебя видеть при свете грозы!
Может, постигну я тайну твою,
Может, правдивую песню спою…
В памяти каждого, кого хоть раз заставала гроза в чистом поле, навсегда запечатлен долгий безмолвный миг между мертвенно-белым разрядом, вдруг соединяющим небо и землю, и чудовищным грохотом в небесах. Что-то странное открывается взору в это нескончаемое немое мгновение: словно ты очутился внутри гигантской выцветшей фотографии, где всё бросает обочь себя резкие тени, становясь объемным и видимым на десятки километров вокруг.
Твой разум продолжает мыслить даже в этот странный миг и ты успеваешь задать себе мгновенный вопрос: а что, если эта фотография и есть настоящая, подлинная картина мира – а пропавшие куда-то цвет, звук и запах лишь украшали ее, мешая понять главное? Если так, то именно сейчас и нужно всматриваться до рези в глазах в то, что открылось тебе в это редкое мгновение озарения…
Начало 90-х годов ХХ столетия стало для меня именно таким «долгим мигом». Прежде я лишь подозревал, что цвет и звук мешают видеть смысл, но слепящий свет этого отрезка исторического времени заставил выцвести последние иллюзии, еще гнездившиеся в моей душе.
Может быть, я до конца и не понял, что именно было провозглашено небесами сразу после вспышки обесцвеченной немоты. Но зато всё увидел воочию. Я никогда не забуду родину, увиденную при свете грозы.
Диана КАН. Свет Пушкина сияет над Россией
В селе Большое Болдино прошёл 53-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии

В Пушкинские дни знаменитое нижегородское село Болдино обретает статус одной из литературных и культурных столиц России. Ведь для всего читающего человечества светлое имя Пушкина является олицетворением не только поэзии, но и русского духа. А Болдино является одним из центров русского притяжения, потому что именно тут Поэт пережил то таинственное состояние творческого взлёта, которое ныне известно как Болдинская осень. Полтора столетия унеслись в прошлое, но ныне Болдинское созвездие музеев активно и постоянно востребовано гостями. Существует такая примета, что ежели ты хотя бы раз побывал в российской столице вдохновения, то обязательно сюда вернёшься и, возможно, не раз. Отрадно видеть, что болдинские музейные экспозиции постоянно обновляются, прирастая новыми зданиями, экспонатами, выставками, проектами…

В этот раз поэтические дни совпали с фестивалем музейщиков, и все желающие могли увидеть множество креативных музейных площадок из самых разных уголков России; парад литературных героев; пушкинский бал; блиц-постановки пушкинских сказок – а также поучаствовать в мастер-классах по прикладным видам искусства… Несомненно, очень украсило в плане музыкальном участие в поэтическом празднике камерного хора «Преображение» (Казань) и Государственного ансамбля песни и танца «Казачья застава» (Пенза). Событием праздника стало открытие юбилейной выставки нижегородского художника-акварелиста, члена Союза художников России Валерия Хазова, человека во многом пушкинской темы.
Но какие бы новшества каждый раз не преподносили болдинцы гостям в честь Александра Сергеевича, неизменными константами Пушкинских праздников являются торжественный вечер в день открытия праздника. Ныне он проходит в прекрасном новом здании Научно-культурного центра. На этот концерт традиционно приезжают из Нижнего Новгорода первые лица региона, а в этот раз церемонию открытия посетил сам президент Российской академии наук! Завершила выступление поэтов России концертная программа Нижегородского камерного театра им. В. Степанова.

Традицией праздника высокой поэзии в селе Болдино является посещение прекрасного храма семьи Пушкиных, что был построен бабушкой поэта. Конечно же, непременная церемония каждого праздника – возложение цветов к памятнику гения на территории музея-усадьбы Пушкиных, под реликтовой лиственницей, привезённой самим поэтом из его далёкого путешествия в Оренбургский край к местам Пугачёвского бунта. В этом году музей-усадьба открыт для посетителей в новом, тщательно отреставрированном формате. На территории усадьбы появилась воссозданная по старинным картинам и проектам конюшня пушкинского времени. Вскорости она огласится ржанием лошадей… Неизменной составляющей праздника является и выступление поэтов, гостей из самых разных регионов России, в знаменитой пушкинской роще Лучинник, под открытым небом. Обычно концерт там проходит после поездки в расположенный недалеко от Болдино в старинном селе Львовка музей литературных героев «Повестей Белкина».
Делегация писателей, которую на этот раз возглавлял председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, была представлена самыми разными регионами России. Назову лишь некоторых, максимально сократив перечень регалий, ибо, как известно, заслуги писателя – в его имени. Поэт Николай Алешков (Татарстан), главный редактор всероссийского литературного журнала «Аргамак». Пушкиновед Валерия Белоногова (Нижний Новгород) – кандидат филологических наук, автор многих книг о Пушкине. Славист Ольга Блюмина (Донецкая республика, Горловка) – кандидат филологических наук, докторант кафедры русского языка Донецкого национального университета. Автор-исполнитель Николай Ерёмин (Санкт-Петербург) – лауреат многих поэтических конкурсов и фестивалей авторской песни. Поэтесса Людмила Калинина (Нижний Новгород). Прозаик Юрий Козлов (Москва) – главный редактор «Роман-газеты» и «Детской роман-газеты». Писатель и публицист Валерий Сдобняков (Нижний Новгород) – главный редактор журнала «Вертикаль XXI век», председатель Нижегородской отделения Союза писателей России. Народный поэт Чувашии Валерий Тургай (Чувашия) – заслуженный работник культуры Чувашской Республики. Поэтесса Маргарина Шувалова (Нижний Новгород), представлявшая Центр писателей Нижегородского края. И так далее. Вёл литературные вечера поэт-болдинец Александр Сергеевич Чеснов – вёл с той доверительной непосредственностью, которая невольно заставляет вспомнить пушкинские слова «Друзья, прекрасен наш союз!».

Приятной неожиданностью праздника для многих на сей раз стал день рождения директора Болдинского музея-заповедника Нины Анатольевны Жирковой. Она не только уникально разносторонний человек, но и очень скромный при этом! Есть нечто символическое в том, что даже день рождения этой неотразимой женщины, посвятившей всю жизнь служению пушкинскому наследию, практически совпадает с пушкинским днём появления на свет и потому традиционно остаётся в тени Поэта. В этот раз дата дня рождения Нины Анатольевны открылась совершенно случайно, и как ни пыталась именинница «уйти в пушкинскую тень», ей этого не позволили сделать. Первые лица административного управления Болдино и присоединившиеся к ним писатели торжественно поздравили Нину Анатольевну. Хотя и тут не обошлось без пушкинского вмешательства: практически все цветы в Болдино накануне возложения к памятнику поэту оказались раскуплены читателями и почитателями его таланта. Впрочем, я почему-то уверена: будь Пушкин среди нас, он не преминул бы все свои цветы отдать этой уникальной женщине… За неимением возможности купить цветы я решила: а почему бы мне не подарить Нине Анатольевне своё новенькое стихотворение о Болдино, которое так кстати написалось у меня по пути на пушкинский праздник. Тем более что оно не только о Пушкине, но и о тех замечательных женщинах, верных его светлому имени:
НИНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ ЖИРКОВОЙ
Когда бы про столичность ни спросили,
Я вспоминаю вовсе не Москву!
Столицей вдохновения России
Я пушкинское Болдино зову.
В каком бы веке, возрасте и чине
Сюда я ни приехала опять,
Я босиком по рощице Лучинник
Люблю, подобно Пушкину, гулять.
В той роще, как поэт непредсказуем,
К моим устам таинственно приник,
Меня сжигая страстным поцелуем,
Кипящий, как Кастальский ключ, родник.
Нет-нет, не надо пафоса о вечном!
О вечном, право, лучше помолчать…
Но здесь я в каждом встречном-поперечном
Всегда готова Пушкина узнать.
Ведь разве равнодушным мог остаться

