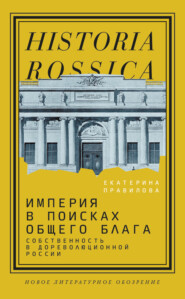По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Финансы империи: Деньги и власть в политике России на национальных окраинах. 1801–1917
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Применение нового ревизионного порядка было, разумеется, несовместимо с дальнейшим существованием контрольного департамента. Проект применения контрольных правил предполагал его упразднение и создание закавказской контрольной палаты на общих основаниях.
Для обсуждения порядка введения в Закавказье новых сметных, кассовых и ревизионных правил в 1867 году при Государственном контроле была создана специальная комиссия из представителей Министерства финансов, Государственного контроля, Военного министерства и кавказского гражданского и военного управления. Государственный контроль потребовал полного применения общеимперского законодательства к Закавказью, что положило бы конец финансовой самостоятельности наместничества. Комиссией была поддержана большая часть требований Госконтроля
. Комиссия признала необходимость и возможность полного применения сметных, ревизионных и кассовых правил с 1868 года без каких-либо изменений (за исключением предоставления дополнительного пособия на военные расходы).
Вопрос о проведении финансовой реформы в крае должен был пройти обсуждение в Кавказском комитете. В споре между сторонниками сохранения или уничтожения финансовой самостоятельности наместничества комитет принял сторону властей края. Он признал, что система обособленного бюджета не согласовывалась со сметными правилами, но особое положение Закавказья требовало «временных жертв со стороны Государственного казначейства и временных же изъятий от общеустановленных правил». По соглашению с министром финансов было принято решение «сохранить за наместником впредь до усмотрения право соразмерять итог составляемых по гражданскому управлению Закавказского края ежегодных смет расходов, а равно и расходов сверхсметных с суммой ожидаемых к поступлению по сему краю доходов, с тем, однако, чтобы на обязанности главного местного начальства лежало… заботиться о том, чтобы за удовлетворением необходимых потребностей местного гражданского управления излишек доходов был обращаем на уменьшение пособий, ныне оказываемых краю из общих сумм Государственного казначейства»
. Эта запутанная формулировка подразумевала сохранение за наместником права составлять особый бюджет края, ежегодно вносившийся в Государственный совет отдельно от общегосударственной росписи.
В порядке применения новых кассовых правил по истечении назначенного в 1858 году десятилетнего срока наместник терял право оставлять в своем распоряжении остатки от доходов по гражданскому управлению и военной части
. Накопившиеся к 1868 году остатки подлежали передаче в Государственное казначейство. Но в качестве главнокомандующего наместник получал компенсацию в виде ежегодного пособия в 400 тыс. руб. Согласно решению комитета, с 1868 года новые кассовые, сметные и ревизионные правила вступали в действие на территории Закавказья.
Через два года после принятия этого решения Кавказского комитета Министерство финансов вновь возбудило вопрос, не следует ли в связи с окончанием действия правил 1858 года соединить роспись края с общеимперским бюджетом, распределив соответствующие статьи ведомственных расходов и доходов по сметам министерств и главных управлений. Пользуясь двусмысленностью формулировки о праве наместника «соразмерять итог составляемых по гражданскому управлению Закавказского края ежегодных смет расходов… с суммой ожидаемых… доходов», министр финансов М.Х. Рейтерн предположил, что такое «соразмерение» может осуществляться и без составления отдельной сметы. При этом Рейтерн ссылался на пример «более отдаленного» Сибирского края, никогда не имевшего отдельной сметы, и Царства Польского, бюджетная автономия которого была незадолго до того ликвидирована
.
Наместник, комментируя предложение министра финансов, иначе интерпретировал правила 1858 года. Он заметил, что «10-летним сроком ограничено лишь право наместника на распоряжение превышениями и остатками от доходов края и сбережениями по расходам. Относительно же того, в продолжение какого времени местные доходы назначены исключительно на удовлетворение расходов местного гражданского управления Закавказского края и наместнику предоставлено составлять ежегодные отдельные сметы по краю, в означенном выс. утв. повелении 1858 года ничего не постановлено, следовательно, истечение 10-летнего срока никакого влияния на силу и действие означенного закона иметь не может»
.
По мнению вел. кн. Михаила Николаевича, принятие по инициативе Барятинского особых правил составления сметы края было обусловлено особым положением Закавказья:
Правительство имело в виду, что Закавказский край поставлен в совершенно исключительные обстоятельства, что здесь хотя и не предстоит борьбы с политическим прошедшим, как в Польше, и нет такого необозримого пространства для творчества административного, как в Сибири, но есть не менее, а во многих отношениях более трудная задача пересоздания страны, в которой и природа, и тысячелетние предания, и религиозный антагонизм противопоставляют просвещению и слиянию с общим составом Империи преграды своей замкнутостью, своими предрассудками, своим фанатизмом. Для скорейшего и лучшего достижения своих целей правительство признало необходимым сосредоточить в самой этой части Империи свои административные и финансовые средства, создав в 1845 году сильную, с обширным к ней доверием местную власть, оно в 1858 году предоставило этой последней для более успешного действования местные денежные средства, оно осознало, что впредь до времени неразумно было бы смотреть на Закавказский край как на источник доходов и что не следовало жертвовать существенными интересами достижения высших государственных видов для одних только формальных целей сохранения единообразия в порядке действования учреждений или расходования сумм. Закавказский край не может еще считаться окончательно устроенным… Поэтому если не устранились те поводы, которые вызвали исключения, то трудно было бы объяснить и оправдать отмену этих последних
.
Восстановление прежнего порядка, то есть введение централизованного составления сметы по министерствам и ведомствам, считал вел. кн. Михаил Николаевич, поставит наместника в зависимость от баланса смет всех министерств и главных управлений и тем самым парализует его деятельность. Таким образом, наместник настаивал на сохранении особого порядка составления расходной сметы Закавказского края, отдельно от смет министерств и ведомств, но допускал возможность механического разнесения статей доходов по сметам министерств.
Государственный контролер, рассматривая возникшую спорную ситуацию, на этот раз согласился пойти на компромисс и допустить отдельное составление смет для учреждений, непосредственно подчиненных Главному управлению наместника. Сметы учреждений, подчиненных центральным ведомствам (например, контрольных палат, учреждений Синода), могли быть включены в общие ведомственные росписи. Формальным основанием для исключения из общих сметных правил являлось особенное «административное положение» Закавказья, отличавшее его от статуса Сибири и бывшего Царства Польского
. Именно особые права и полномочия наместника давали возможность сделать поправку в общих бюджетных правилах.
Итак, согласно принятому 10 января и утвержденному 10 марта 1870 года решению Государственного совета, Закавказский край сохранял особую роспись, в которую входили расходы по гражданскому управлению. В общегосударственную смету должны были включаться все расходы, осуществлявшиеся из Государственного казначейства, а также доходные статьи закавказской росписи, «разнесенные» по соответствующим рубрикам государственного бюджета.
Особая роспись Закавказского края и связанная с этой обособленностью система взаимоотношений между органами центрального финансового управления и наместником перестала существовать лишь с упразднением наместничества в 1882 году. Между тем уравнение местного начальства в правах с губернаторами произошло не сразу: в области финансов власти Закавказья сохранили ряд привилегий. Так, главноначальствующий в крае был наделен дополнительными средствами для «чрезвычайных расходов», ранее выделявшихся наместникам. Для этого существовала весомая причина: необходимость поддержать «имидж» власти.
Во-первых, деньги требовались для демонстрации богатства и роскоши, что создавало авторитет в глазах населения. «Не следует забывать, – писал А.Н. Николаи, – что в стране, населенной азиатскими племенами, наружная обстановка представителя Верховной власти имеет большое значение». (Вспомним, какое значение придавал Барятинский сохранению за ним права распоряжаться деньгами на «подарки» – с точки зрения русской власти, они были важнейшим атрибутом восточного правителя.)
Во-вторых, «в течение 37 лет население привыкло видеть наместника располагающим значительными средствами для пособия и поощрения всяких благих предприятий», и «внезапный переход от такой обстановки к материальной беспомощности носителя власти» мог серьезно повредить «обаянию этой власти». Это пагубное последствие лишения финансовых привилегий могло бы принести больший ущерб, нежели положительный результат от «сбережения» средств Государственного казначейства. С точки зрения Николаи, в распоряжение главноначальствующего следовало ежегодно предоставлять 100 тыс. руб. на чрезвычайные расходы с обязательным возвращением остатков в казну
.
Это высказывание Николаи представляет, с моей точки зрения, квинтэссенцию идеологического обоснования особого финансового статуса Закавказья. «Колониальные» правители, представлявшие власть императора в крае, использовали финансовые полномочия для создания особого ориентального имиджа власти, приноравливаясь к местным представлениям о том, как должна выглядеть эта власть. Резонно предположить, что ссылка на поддержание «обаяния власти» была лишь поводом для сохранения финансовой самостоятельности. Но тот факт, что центральное правительство охотно шло на выделение этих средств (кстати, сам Николаи говорил от лица правительства), подчеркивает его озабоченность необходимостью поддерживать авторитет местных властей – как бы дорого это ни обходилось.
Закавказье в конце XIX – начале XX века: экономическое развитие и централизация бюджетного управления
Несмотря на попытки местных властей получить особый финансовый статус, после упразднения наместничества отношения между центральным казначейством и окраиной складывались в соответствии с общеимперским бюджетным законодательством. Централизация управления доходами и расходами обусловливалась целым рядом причин: упрощением условий коммуникаций, усилением контроля со стороны финансовых контрольных ведомств и, главное, экономическим развитием края. В течение двух десятилетий после упразднения наместничества в экономической жизни Закавказья произошли существенные изменения, связанные с бурным ростом нефтедобывающей промышленности. Развитие нефтедобычи (за 1870-1880-е годы она выросла в 10 раз) и торговых связей Закавказья изменили значение этого региона в финансовой системе империи. В перспективе эта некогда обременительная для империи окраина обещала превратиться в один из источников обогащения.
Именно поэтому, когда в 1905 году по сугубо политическим причинам было принято решение о восстановлении наместничества на Кавказе, возвращение к существовавшей до 1882 года системе взаимоотношений между Министерством финансов и администрацией Закавказья стало для финансового ведомства неприемлемым. Указом 26 февраля 1905 года о восстановлении наместничества на Кавказе наместнику было предписано подготовить проект положения об управлении краем, а до тех пор во взаимоотношениях с гражданскими ведомствами, в том числе Министерством финансов, руководствоваться статьями «Учреждения Управления Кавказского и Закавказского края» Свода законов 1876 года.
Возможно, законодатели и не планировали полного восстановления системы финансового управления регионом. Вряд ли, например, кто-либо всерьез допускал возможность выделения бюджета Закавказья в отдельную смету. Однако сама идея воссоздания старой системы, проскользнувшая в указе, была встречена Министерством финансов в штыки. Буквально все департаменты министерства представили отзывы, в которых категорически выступили против такой перспективы. Одним из наиболее энергичных противников возвращения к прежнему режиму был начальник Главного управления неокладных сборов И.И. Новицкий. Он заявил о необходимости сохранения «прямого руководительства» министра финансов акцизными сборами в крае, что тоже противоречило статьям Свода законов 1876 года. Основным аргументом было особое значение контроля за поступлением акцизов с нефти и производства нефтепродуктов. Вопросы, касавшиеся бакинской нефтяной промышленности, по его мнению, не могли рассматриваться как «распоряжения местного характера, но очевидно должны быть признаны мероприятиями общегосударственного значения»
.
Аналогичные отзывы были представлены и другими главами подразделений финансового ведомства. Министр финансов В.Н. Коковцов суммировал выводы этих отзывов в проекте принципов взаимоотношений местной власти и Министерства финансов. В этом проекте, адресованном наместнику И.И. Воронцову-Дашкову, министр признал возвращение к статьям Свода законов 1876 года нецелесообразным
.
Предложения самого Коковцова состояли в том, чтобы наделить наместника полномочиями по управлению финансами края, но предоставить министру финансов право непосредственных сношений с подчиненными ему учреждениями «по всем предметам, входящим в круг их ведомства». Это означало, что все финансовые учреждения должны были получать распоряжения непосредственно от министра, а также представлять в центр отчетность. Единственное исключение состояло в том, что все циркуляры по Министерству финансов, касавшиеся только Кавказа, должны были издаваться «по соглашению с наместником». Это правило касалось всех органов финансового ведомства, и прежде всего казенных палат и казначейств.
Ряд изъятий был предусмотрен и для отдельных отраслей финансового управления. Так, например, ходатайства о рассрочке, отсрочке и сложении государственного промыслового налога, квартирного налога, пошлин крепостных и наследственных, таможенных, пробирных, котельного сбора и всякого рода других казенных пошлин и сборов должны были рассматриваться Министерством финансов непосредственно. Тоже самое касалось и ходатайств о ссудах из Государственного казначейства. Вне компетенции наместника находилась и деятельность Государственного банка, Государственного земельного банка и Крестьянского поземельного банка. Наместник мог лишь косвенно участвовать в процессе внесения изменений в их уставы. Министр финансов потребовал, кроме того, предоставления ему права назначать и увольнять члена от Министерства финансов в Совете наместника по согласованию с самим наместником
.
Эти и другие замечания финансового ведомства были учтены при составлении Учреждения об управлении наместничеством. Сложившаяся система управления краем представляла собой не только итог эволюции принципов взаимоотношений между Министерством финансов и администрацией Закавказья. Она свидетельствовала и об общей тенденции централизации финансового управления окраинами, коснувшейся не только Закавказья, но также и других регионов, таких, как Сибирь или Финляндия. Власть наместника образца 1905 года представляла собой в большей степени политический институт, а не институт управления. В восстановлении наместничества мотивы политические преобладали над соображениями административной и экономической целесообразности. Однако Министерство финансов добилось сохранения за собой ключевых функций управления экономикой и финансами края, инкорпорированного, по крайней мере юридически, в финансовую систему империи.
6
Туркестанское генерал-губернаторство: теория бюджетной централизации против практики окраинного управления
Особенность развития финансовых взаимоотношений между администрацией Туркестанского генерал-губернаторства и Министерством финансов определялась тем, что генерал-губернаторство было создано уже после того, как в империи в 1860-х годах были проведены реформы финансового управления, смет и отчетности. Между тем декларированный в законодательстве принцип жесткой централизации не в полной мере действовал по отношению к Туркестану. Регламентировавший деятельность администрации Туркестанского генерал-губернаторства Проект Положения об управлении Семиреченской и Сыр-Дарьинской областей 1867 года, ссылаясь на «отдаленность края от центральных учреждений Министерства финансов», предоставил генерал-губернатору «особые права» по управлению финансами края – право самостоятельно формировать смету доходов и расходов, изменять статьи сметы (не выходя за пределы общей суммы), распределять средства бюджета между военными губернаторами и военноокружными управлениями. Кроме того, ежегодно генерал-губернатору выделялось 200 тыс. руб. на «непредвиденные» расходы
.
Вскоре на Туркестанское генерал-губернаторство были распространены действовавшие в империи правила финансового управления: в 1868 году в крае появились местные учреждения Государственного контроля, в 1869-м – казенная палата и казначейства. В связи с этим расходы и доходы местных учреждений центральных ведомств постепенно перешли в сметы министерств. К 1881 году в доходной смете генерал-губернаторства остались лишь земский сбор с населения края, доходы от казенных учреждений («Туркестанские Ведомости» и пр.), лесов и оброчных статей и, наконец, доходы Ферганской области
. Тем не менее полномочия генерал-губернатора в области финансового управления были достаточно широки. Руководствуясь Проектом Положения об управлении Семиреченской и Сыр-Дарьинской областей 1867 года, генерал-губернатор составлял смету и расходовал местные бюджетные средства по своему усмотрению. Он мог в случае «чрезвычайного положения» полностью изъять находившиеся в местном казначействе средства. Предоставление этих прав мотивировалось необходимостью содействовать отечественной торговле и промышленности
.
Распространение на Туркестан общих норм финансового управления в 1868–1869 годах было встречено генерал-губернатором края Константином Петровичем Кауфманом, очевидно, без восторга. Даже предоставленных особых полномочий по распоряжению доходами края ему было недостаточно. Так, по мнению Кауфмана, право испрашивать сверхсметные кредиты в действительности не увеличивало финансовые возможности администрации, так как для получения кредита следовало заблаговременно (за 6 месяцев) испрашивать разрешение в Петербурге. Попытки Кауфмана пользоваться «заимствованиями из наличных фондов» приводили к постоянным конфликтам с местными учреждениями финансового контроля
.
Генерал-губернатор жаловался на мелочный контроль со стороны председателя контрольной палаты края, который, по словам Кауфмана, останавливал действие его распоряжений, не соответствовавших кассовым правилам. В таких условиях, писал Кауфман военному министру Д.А. Милютину, «нельзя быть генерал-губернатором и рассчитывать на успех». Кауфман просил Милютина оградить его от подобных демаршей со стороны Госконтроля, подрывавших авторитет генерал-губернатора в глазах подчиненных, и добавлял, что в противном случае он вынужден будет просить об освобождении от должности
.
Со своей стороны государственный контролер В.А. Татаринов, защищая принцип равного применения правил кассового управления и финансовой отчетности, указывал на «уклонения» местной администрации края «от установленного порядка расходования сумм»
. По его словам, туркестанский генерал-губернатор не только без уведомления заимствовал «весьма значительные суммы» из наличных фондов
, но и без согласования с центром ассигновывал эти деньги на заведомо убыточные мероприятия (такие, как постройка собора в Ташкенте, сооружение водопровода, разработка каменноугольной копи), а также самостоятельно вводил новые сборы с населения.
По мнению государственного контролера, дополнительную свободу местной администрации в расходовании средств давало то, что доходы с вновь присоединенных областей (Зарявшанского округа, Ферганской области и Кульджинского района) долгое время находились в непосредственном распоряжении генерал-губернатора
. Действительно, новые территории в течение нескольких лет оставались вне зоны действия кассовых правил. Однако Кауфман, несмотря на возражения и государственного контролера Татаринова и министра финансов М.Х. Рейтерна, добился – сначала через Государственный совет