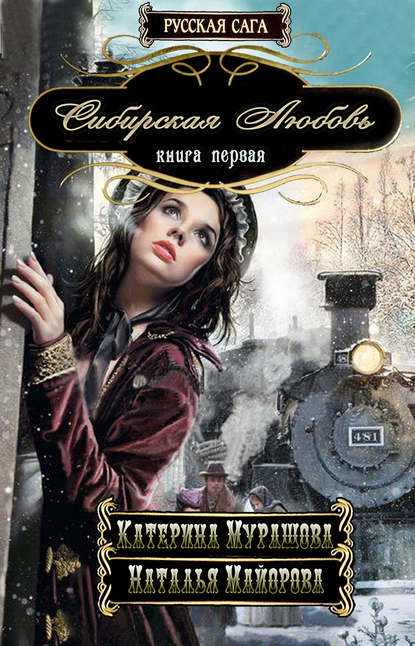По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сибирская любовь
Серия
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Об этом и разговор, если ты не понял, – усмехнулась она. – Чтобы иметь должное положение и необходимые в столице финансы, прежде ты женишься на дочери Гордеева. Все равно уже возраст пришел. А она когда-то по тебе сохла…
– На хромоногой Машке? Да вы что, мама?! На что вы меня толкаете? А еще говорите на всех углах, что любите меня, дескать, без памяти… Да я лучше… Я лучше на младшей дочери остяка Алеши женюсь! Она пусть косоглазая, зато не хромает и ладаном от нее не несет. Пусть дурочка, пусть смеется все время… С ней хоть позабавиться можно. А Машка… она, мало что калека, она же скучная и холодная, как зима без снега. А Гордеев – самодур из самодуров, почище Викентия Савельевича в сто раз. И этакую долю вы, маменька, своему любимцу… Ну, не ожидал!
– Николя! Я думала, ты умнее, – Евпраксия Александровна дернула самым уголочком губ.
Более позволить себе не могла, слишком много на карту поставлено. А ну как Николаша взаправду заупрямится! Другого шанса не будет. Зачем тогда дальше жить? Один взгляд на старшего сына, на его породистое, нервное, надменное лицо – и сразу вспоминается московская жизнь, молодость, сверкание огней… Кудрявая зелень тихих садиков, подвешенные на цепях качели, нежный шепот и как бы случайное прикосновение горячей руки… Даже снег в Москве пах удивительно и тонко – только что распустившимися ландышами. Тройка, запряженная в расписные сани, нетерпеливые лошади опускают головы, потряхивая длинными гривами и покусывая снег. Взбитая пена серебристых мехов, из которых, словно из гнезда, высовываются хорошенькие девичьи личики, раскрасневшиеся от мороза.
Тронулись. След от саней, края которого заботливо окопаны лопатой, возвышается над очищенными тротуарами более, чем на полметра. Взгляд сверху. Москва, деловая пестрота Китай-города, все у девичьих ножек, обутых в белые фетровые валенки. Встречные кавалеры учтиво раскланиваются. Прохожие из простых, милые, румяные, с ясными светлыми глазами и русыми бородами в инее, улыбаются вслед тройке, машут меховыми рукавицами. Легкие сани несутся как ветер, а копыта лошадей отбрасывают назад твердые, как град, ледышки, барабанной дробью стучащие о защитный фартук. Над домами, прямо в безмятежном небе то и дело круглятся лазурные, в золотых звездах купола…
В Сибири же снег пахнет репой и мороженой рыбой. И лица даже у мастеров и инженеров тупые и плоские, как будто только вчера вытесали их из сырой деревяшки…
– Я объясню тебе, а ты постарайся выслушать и понять… Не морщись, я долго думала, потому знаю, что говорю. Гордеевский единственный сын Петька – остолоп еще покруче твоего, и на спиртное слаб. Надежды на него у Гордеева никакой, да и ты при случае сможешь им вертеть как захочешь. Вы ж друзья с детства. А Машеньку все равно пристраивать надо или в монастырь везти, как эта сушеная старуха, гордеевская сестра, хочет. Теперь смотри: хочет ли Гордеев отдавать в монастырь единственную дочь, которая хоть и калека, но не дура, которую он на свой лад любит, и которую на «пиванинах и по-хранцузски» выучил? Ясное дело, не хочет. Петя в своем дому не хозяин, значит – что? Что, я тебя спрашиваю?
– Я слежу, мама, за вашей мыслью…
– Очень хорошо, что следишь… Если кто к Машеньке посватается, Гордеев будет рад-радешенек каличку пристроить. И к делам подпустит, и к кошельку…
– Мама, вот здесь я не уловил. Какая мне выгода в том? Что я подрядами стану заниматься, что приисками – все одно. Зачем же мне на Машке-то жениться?
– Я думала, ты уж понял. Если ты Машу за себя возьмешь, она у тебя с руки есть будет. Отец отцом, но муж-то для женщины всегда ближе. Тем более для такой, какая и на замужество-то не надеялась. Вот и поведешь ее так, что здесь, мол, в Сибири, не жизнь, и надо вам с ней перебираться в Россию…
– Мама! Да зачем она мне в столице? Только свяжет по рукам и ногам… Да и не согласится она никогда папеньку оставить. Она же трусиха жуткая, всю жизнь за печкой просидела…
– Николя! Ты все-таки дикарь порядочный! Да чем она тебе помешает! Что она, по-твоему, в свет там выезжать будет? На гуляния? Окстись! А поедет, потому что ты, муж, так захотел. Здесь за печкой сидела и там сидеть будет. Только тут папенька Гордеев под боком, а там и вовсе никого. А ты будешь жить на гордеевские деньги в свое удовольствие… Отец твой, я имею в виду родного отца, по слухам, не то, чтобы в опале, но… в несколько стесненных нынче обстоятельствах. Я думаю, познакомившись с сыном, зятем сибирского золотопромышленника, он не откажет тебе в некоторых рекомендациях, которые откроют для тебя двери… Ох, Николя! Ты вырос в глуши, и представить себе не можешь… Я никогда не прощу ни тебе, ни себе, если ты упустишь такую возможность… Да и я сама не хочу доживать здесь свой век…
– То есть, мама, если я вас правильно понял, вы желали бы отправиться со мной и моей предполагаемой женой в Москву или Петербург? А как же Викентий Савельевич? Васька?
– Оставь, Николя. Ты должен осуществить свою часть плана. Со своими делами я разберусь сама.
– Но что, если Машка, соскучившись жить со мной, нажалуется Гордееву? Ведь я ее любить не могу. Он отзовет ее назад, а мне без его денег…
– Не будет такого!
– Отчего же?
– Во-первых, оттого, что никогда Машенька жаловаться не станет. Гордость не позволит. Такие, как она, жизнь несут, как крест, да еще, дураки, и гордятся тем. Они, как радость какую заполучат, так в церковь бегут, прощения у Бога просить, что вот, мол, повеселиться довелось. Так что ей, в каком-то смысле, чем хуже, тем лучше. Встречала я таких, породу их знаю. Исполать им. А во-вторых, безгрешных людей Господь сразу на небо забирает. А мы, все здесь, – грешники. И Гордеев – грешник не из последних. И некоторые его грехи нам известны. И доказательства имеются. И можно эти доказательства при случае и передать…
– Ма-ама… Вы, однако, и вправду все продумали… Я удивлен. Но только вся здешняя полиция у Гордеева с рук ест…
– Имеются и повыше инстанции. А золото – это все же казенный интерес. И каналы, по которым оно в Китай уходит… Найдутся такие, кто заинтересуется… Гордеев собственную дочь и собственное дело подставлять не станет и никаких денег на то не пожалеет. А если супруга и вправду захочет в Сибири жить, то в чем твоя беда? И в перспективе, гляди: оба наследника гордеевских у тебя на короткой веревочке, как захочешь, так и станешь капиталом распоряжаться. Захочешь, превратишь все в деньги и за границу уедешь… Мне-то к тому времени уж все равно будет…Ну, что теперь скажешь? Любит тебя мамочка или как?
Уходя из комнат матери, Николай оставался задумчив. Весьма кстати вспомнился недавний разговор с Петей на охоте… Да, пожалуй, штуцера и свору пока придется забросить. Тут поинтересней охота намечается. Если, конечно, все обмозговать как следует и очень тонко разыграть…
Глава 7
В которой егорьевские властители взбудоражены дерзким воровством и душегубством, а девушки, как им и положено, думают все больше о своем, о девичьем…
Словом, жил городок сам по себе, читал столичные газеты месячной давности; а новостей, впрочем, хватало и своих. Вот, например, вышла в палисадник поповская дочка Фаня, глядит: а куда это становой исправник Овсянников скачет? Вид такой важный, по сторонам не глядит, проехал – не поздоровался. Ясно – к Гордееву. Поповна не поленилась, добежала до угла, посмотрела – точно, к гордеевским хоромам сворачивает, а там уж ему навстречу ворота открывают. Ох, неспроста приехал! Что-то ведь случилось третьего дня в тайге. Слухи быстро расползлись. Да только никто как следует не знает – что именно.
Ворота распахнулись перед всадником, конюх Игнатий поспешил принять жеребца. Румяная курносая девица в пестром платье с оборками, подвязывавшая у ворот золотые шары, отвесила поклон. Приезжий – коренастый, круглый и крепкий, как башкир, в зеленом мундире, встопорщенном на боках, – глянул на нее хоть и с удовольствием, но коротко; и быстро двинулся по широким деревянным мосткам к дому.
– Чегой-то он такой суровый-то? – сделала красавица круглые глаза, подаваясь к Игнатию. – Никак и впрямь все правда, что болтают? Я сама в конторе слыхала: жалованье на прииске третьего дня должны были выдавать. А до сих пор…
– Может, и правда, а дело не наше. – Игнатий погладил вороного по холке и ухмыльнулся, глядя на девицу. – Ты, Аниска, с чего разрядилася-то? Вроде не праздник. Давно тычка от Марфы Парфеновны не получала?
– А, ништо, – Аниска слегка раздраженно мотнула косой, – постом все в буром ходила, теперь не стану. Чай, не монашка. Ты мне лучше скажи, что там в тайге-то… – она умолкла, остановленная значительным взглядом конюха. Тот явно не был расположен попусту болтать.
Игнатий увел вороного в конюшню. Аниска с минуту постояла посреди двора, горестно вздыхая. И впрямь – дела не наши. Сунешься, а нос-то и прищемят. Но любопытно было – страсть как. Поколебавшись еще немного, она опасливо глянула по сторонам, убедилась, что следить за ней некому, и, подхватив подол, побежала к дому. Только не к парадному крыльцу с высокой лестницей и резным куполом, а – за угол. Скользнула в черную дверь, переходами, темными низкими комнатами, по крутым ступенькам добралась до квадратного коридорчика, почти целиком занятого цветущей китайской розой. В коридоре было окно и две двери. За одной – лестница, а из-за второй доносились голоса. Аниска затаила дыхание и глянула в щелку.
– Приложим все силы, Иван Парфенович. Татей непременно изловим, – хрипловато гудел становой исправник Семен Саввич Овсянников.
Он сидел в кресле напротив хозяина, от которого его отделяла обтянутая темно-коричневой кожей поверхность письменного стола. На столе, как всегда – порядок: тисненый бювар, чернильный прибор темного малахита, часы с бронзовым кентавром. Сбоку, на специальном столике, под стеклом – макет Мариинского прииска. Исправник держал в руке стакан, на дне которого плескалась зелено-золотая жидкость – из бутыли, что возвышалась посреди стола на подносе. Такой же стакан стоял и перед Иваном Парфеновичем – только полный.
На хозяина Аниска боялась взглянуть. Почему-то была уверена: тотчас заметит. А тогда – помогайте, святые угодники! Подслушиванья да наушничанья Гордеев не терпел. Но взглянуть хотелось – хоть одним глазом: что он, сильно ли сокрушен? Ведь если и впрямь – все правда, тогда сколько ж он денег-то потерял! И люди полегли…
Нет, сокрушенным Иван Парфенович никак не выглядел. Точно такой, как всегда. Разве что вот бороду покручивает. Была у него такая привычка: крутить прядь от бороды, когда что-то надо было решить или дела шли не так. Борода, кстати, богатая: золотистая, как лисий хвост, и почти без седины. Кроме нее, не было в его внешности, пожалуй, ничего примечательного. Главное – осанистости. Вроде и не мелкий, но купцам-то, известно, объем полагается, проще говоря – пузо. Этого не имелось. И лицо тоже – самое обыкновенное. Разве что глаза. Небольшие, серые в желтую крапинку, и видят все насквозь. Ясное дело – умище! Его не спрячешь.
– Изловить-то изловите, а деньги мне кто вернет? – усмехнулся Иван Парфенович. Взял стакан, подержал, поставил на место. – Жалованье чем платить рабочим? Не заплачу, а они – бунтовать, а Гордеев снова – аспид, злодей рода человеческого. Эксплуататор!
– Этих революционных разговорчиков мы не допустим, – деловито хмыкнул Овсянников, – зловредные источники нам известны. Искореним, будьте покойны! И деньги постараемся вернуть. Лично я… Тут, Иван Парфенович, еще вот какая заусеница, – он вынул из папки, пристегнутой к поясу, несколько бумаг и выложил на стол перед хозяином. – Поглядите-ка: указанный господин вам с какой-нибудь стороны известен?
Гордеев, не выказывая ни удивления, ни иных чувств, молча взял бумаги. Аниска напрягла зрение. Одна – точно паспорт, остальные… Да разве разберешься? Она и вблизи-то не разглядела бы. Иван Парфенович прочитал вслух:
– Опалинский Дмитрий Михайлович.
Посмотрел на исправника:
– Как же не известен. Мой собственный управляющий. Правда, в глаза я его еще не видал.
Овсянников, казалось, обрадовался:
– Вот и разъяснилось! Он то же самое говорит. Опалинский Дмитрий Михайлович, из потомственных дворян, горный инженер, кончил полный курс в Санкт-Петербурге. Экая птица! А в наших дебрях чуть живота не лишился.
Гордеев слегка поморщился.
– Постой. Он, что – тем же поганцам попал под руку?
– Именно! Ехал к вам в почтовой карете. Два казака с жалованьем – ну, как положено; еще попутчик, некто… а, вот: Дубравин Сергей Алексеевич, мир праху его. Они, поганцы-то, Дубравина сразу – насмерть, а из нашего инженера только дух вышибли. А он полежал, полежал, потом очухался и пошел. Два дня шел! И не заплутал, вот что чудно. А в участке-то его сгребли и – в холодную. Пока разобрались, мне доложили. Мне-то, покаюсь, Иван Парфенович – сперва не до него было, я сразу – в лес, да только напрасно. Ни разбойничков, ни кареты, ни трупов.
– Где же он теперь?
– Да где? В участке, ясное дело. Прикажете доставить?
– В участке? – переспросил Гордеев тихо, и глаза его, сузившись сделались совсем желтыми. – Два дня, говоришь, по тайге шел, просидел в холодной, тебе документы представил – и опять в участке?..
Он снова взял стакан – и отставил так резко, что вино выплеснулось на кожаную столешницу. Аниска, которой гордеевский нрав был прекрасно известен, живо отпрыгнула от двери.
– Сказал бы я, Семен Саввич, – донеслось до нее напоследок, – да мундир на тебе. Государственного человека срамить не стану…