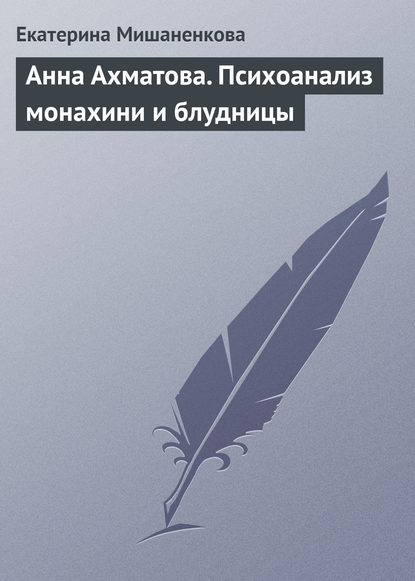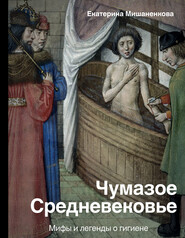По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Анна Ахматова. Психоанализ монахини и блудницы
Жанр
Год написания книги
2014
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мимо дома примерно каждые полчаса проносится к вокзалу и от вокзала целая процессия экипажей. Там всё: придворные кареты, рысаки богачей, полицмейстер барон Врангель – стоя в санях или пролетке и держащийся за пояс кучера, флигель-адъютантская тройка, просто тройка (почтовая), царскосельские извозчики на «браковках». Автомобилей еще не было.
По Безымянному переулку ездили только гвардейские солдаты (кирасиры и гусары) за мукой в свои провиантские магазины, которые находились тут же, поблизости, но уже за городом. Переулок этот бывал занесен зимой глубоким, чистым, не городским снегом, а летом пышно зарастал сорняками – репейниками, из которых я в раннем детстве лепила корзиночки, роскошной крапивой и великолепными лопухами (об этом я сказала в 40-м году, вспоминая пушкинский «ветхий пук дерев» в стихотворении «Царское Село» 1820 года – «Я лопухи любила и крапиву…»).
По одной стороне этого переулка домов не было, а тянулся, начиная от шухардинского дома, очень ветхий, некрашеный дощатый глухой забор. Вернувшийся осенью того (1905) года из Березок и уже не заставший семьи Горенко в Царском Николай Степанович Гумилев был очень огорчен, что этот дом перестраивают. Он после говорил мне, что от этого в первый раз в жизни почувствовал, что не всякая перемена к лучшему. Не туда ли он заехал в своем страшном «Заблудившемся трамвае»:
А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон…
Ни Безымянного переулка, ни Широкой улицы давным-давно нет на свете. На этом месте разведен привокзальный парк или сквер.
Весной 1905 года шухардинский дом был продан наследниками Шухардиной, и наша семья переехала в великолепную, как тогда говорили, барскую квартиру на Бульварной улице (дом Соколовского), но как всегда бывает, тут все и кончилось. Отец «не сошелся характером» с великим князем Александром Михайловичем и подал в отставку, которая, разумеется, была принята. Дети с бонной Моникой были отправлены в Евпаторию. Семья распалась. Через год – 15 июля 1906 года – умерла Инна. Все мы больше никогда не жили вместе.
Напротив (по Широкой) была в первом этаже придворная фотография Ган, а во втором жила семья художника Клевера. Клеверы были не царскоселы, жили очень уединенно и в сплетнях унылого и косного общества никакого участия не принимали. Для характеристики «Города Муз» следует заметить, что царскоселы, включая историографов Голлербаха и Рождественского, даже понятия не имели, что на Малой улице в доме Иванова умер великий русский поэт Тютчев. Не плохо было бы назвать эту улицу именем Тютчева.
Дом Анны Ивановны Гумилевой стоял тоже на Малой. Но мне не хочется его вспоминать, как шухардинский дом, и я никогда не вижу его во сне, хотя жила в нем с 1911 до 1916 года, и никогда не перестану благословлять судьбу за то, что не оказалась в нем во время революции.
Людям моего поколения не грозит печальное возвращение – нам возвращаться некуда… Иногда мне кажется, что можно взять машину и поехать в дни открытия Павловского вокзала, когда так пустынно и душисто в парках, на те места, где тень безутешная ищет меня, но потом я начинаю понимать, что это невозможно, что не надо врываться, да еще в бензинной жестянке, в хоромы памяти, что я ничего не увижу и только сотру этим то, что так ясно вижу сейчас.
…А иногда по этой самой Широкой от вокзала или к вокзалу проходила похоронная процессия невероятной пышности: хор мальчиков пел ангельскими голосами, гроба не было видно из-под живой зелени и умирающих на морозе цветов. Несли зажженные фонари, священники кадили, маскированные лошади ступали медленно и торжественно. За гробом шли гвардейские офицеры, всегда чем-то напоминающие брата Вронского, то есть «с пьяными открытыми лицами», и господа в цилиндрах. В каретах, следующих за катафалком, сидели важные старухи с приживалками, как бы ожидающие своей очереди, и все было похоже на описание похорон графини в «Пиковой даме».
И мне, потом, когда я вспоминала эти зрелища, всегда казалось, что они были частью каких-то огромных похорон всего XIX века. Так хоронили в 90-х годах последних младших современников Пушкина. Это зрелище при ослепительном снеге и ярком царскосельском солнце было великолепно, оно же при тогдашнем желтом свете и густой тьме, которая сочилась отовсюду, бывало страшным и даже как бы инфернальным…»
* * *
Когда я после ухода Ахматовой собиралась домой, мне опять позвонили. Уже знакомый по двум предыдущим разговорам голос строго спросил:
– Товарищ Никитина, вы вынесли решение?
От неожиданности я даже не смогла сдержать возмущения:
– Конечно нет!
– Почему?
Я поспешила сбавить тон и спокойным голосом пояснила:
– Потому что нельзя выносить такое важное решение на основе всего двух разговоров. Требуется время, чтобы пациент начал доверять психиатру и рассказывать ему… свои тайные мысли, – я едва не сказала «что у него на душе», но вовремя сообразила, что это образное выражение может быть неправильно понято.
В ответ я услышала сухое:
– У вас есть три дня.
– Но этого мало. – Я старалась не нервничать и лихорадочно искала доводы. – Поймите, я не могу брать на себя такую ответственность…
– Через три дня пациентка должна вернуться в Ленинград, – безапелляционно отрезал товарищ на том конце провода. – Уверен, вы сумеете оправдать оказанное вам доверие.
Я положила трубку и буквально рухнула в кресло, чувствуя, что на лбу выступил пот. Вновь вернулись прежние страхи. А что, если я ошиблась в своих выводах и Ахматову ждет судьба Цветаевой – та ведь тоже была у психиатра, и говорят, он вынес заключение, что она не склонна к суициду. Хотела бы я знать, что с ним стало после ее смерти… Хотя нет, не хотела бы.
Дома я первым делом вытащила черновики, которые дала мне Фаина Георгиевна, надеясь, что они прольют какой-нибудь свет на те уголки души Ахматовой, которые она сама тщательно скрывала. Увы, мои надежды были оправданы лишь отчасти. Довольно многое из того, что я прочитала, было мне уже известно из воскресного разговора. Но кое-что интересное и новое я все же из ее записок почерпнула.
«…В ней есть все. Есть и земное, но через божественное… Однажды я рассказала ей, как в Крыму, где я играла в то лето в Ялте – было это при белых, – в парике, в киоске сидела толстая пожилая поэтесса. Перед ней лежала стопка тонких книжек ее стихов. «Пьяные вишни» назывались стихи и посвящались «прекрасному юноше», который стоял тут же, в киоске. Герой, которому посвящались стихи, был косой, с редкими прядями белесых волос. Стихи не покупали. Я рассказала Ахматовой, смеясь, о даме со стихами. Она стала мне выговаривать: «Как вам не совестно?! Неужели вы ничего не предпринимали, чтобы книжки покупали ваши знакомые? Неужели вы только смеялись? Ведь вы добрая! Как вы могли не помочь?!» Она долго сердилась на меня за мое равнодушие к тому, что книги не покупали. И что дама с ее косым героем книги относила домой.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: