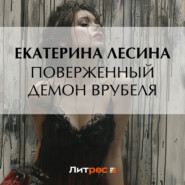По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ошейник Жеводанского зверя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Интересно. Ну и к тому же, где ты увидишь столь изысканный пример косноязычия? Ты только послушай, как талантливо они коверкают язык. «На теле потерпевшей насчиталось более трех десятков ран, предположительно от собачьих клыков».
– Мерзость какая!
– А я работу нашла, – выпалила Ирочка, сразу пожалев, что привлекла внимание. Ну вот, Аленка отложила книгу, бабушка – газету, мама – тонкий венский крендель. – Работу нашла. Сегодня. Завтра приступаю. Вот.
– Молодец, – бросил небрежную похвалу папа, и Ирочка зарделась, деля пополам стыд и счастье. Ее редко хвалили. Хотя и ругали тоже редко.
– И кем ты будешь работать? – С шелестом сложила крылья газета.
– Секретарем.
– Господи, Сережа, ну когда это, в конце концов, прекратится! – маменькин голос не пересек недозволенную границу, за которой повышенный тон переходил в истерику, он вообще изменился лишь на самую малость, и малости этой хватило, чтобы Ирочка сжалась.
Зря сказала.
– Она будет работать секретаршей! Моя дочь – и секретарша! Твоя дочь, Сергей!
– Это недопустимо, – согласилась бабушка. – Совершенно недопустимо...
Какие же они все снобы. Подобная мысль приходила Ирочке в голову с завидной регулярностью, но всякий раз она от мысли отказывалась, объясняя ее то собственным несовершенством, то завистью, каковую испытывает к семье.
– Но я ведь работала уже...
– Она работала! – Маменька всплеснула руками и привычно схватилась за голову. – У меня мигрень начинается.
– Ты работала на меня, – наконец вступил в разговор отец. – Это было нормально. Сейчас ты работаешь на какого-то там типа, который...
Он мог говорить долго, они все любили говорить о том, что Арванди – старинный род, и не Ирочке поведением своим пятнать славное прошлое. Хватит! Она уже посмела родиться некрасивой и тем нанесла непоправимый ущерб будущим поколениям Арванди. Ведь известно, что все Арванди – прекрасны.
Прекрасна бабушка в свои чуть за шестьдесят. Осенняя паутина морщин, обласканный прощальным солнцем мрамор кожи, великолепие черт, над каковыми не властно время.
Прекрасна мама в свои чуть за сорок. Ни морщин, ни иных признаков старения, застывшее совершенство и холод драгоценного камня.
Прекрасен отец – сухая строгость черно-белых дагеротипов, выверенные линии лба, носа, губ, подбородка. Выверенные движения, выверенные слова, произнесенные выверенным тоном, в котором сейчас лишь презрение.
Как же, дочь Арванди – и секретарша...
– А я все равно буду работать! – Ирочка почувствовала, как закипает в груди обида, готовая прорваться потоками слез. Она вскочила, прижала ладони к глазам – только не здесь, плачущая, она жалка и уродлива больше обычного. – Я буду, слышите?!
– По-моему, – заметила бабушка, снова разворачивая газету, – девочку следует показать врачу, у нее явно не в порядке с нервами.
– А работа? – Мама не желала отступать.
– А что работа? Пускай. И я когда-то трудилась нянечкой...
Ирочка не стала слушать дальше, она выскочила из комнаты, потом из квартиры и, как была, босиком, прошлепала на третий этаж. Здесь, в квартире номер тридцать три, жил единственный человек, которому было плевать, как она, Ирочка, выглядит. И за это Ирочка его любила.
А он, не скрывая, любил Аленку.
– Привет, – Леха ее появлению не удивился, но обрадовался. – Заходи, я тут чай пью. Будешь?
– С сушками?
– Ага.
– Тогда буду.
Ирочка «была» бы в любом случае, уже хотя бы для того, чтобы этим чаепитием смыть мерзкий осадок от того, прошлого. Рядом с Лехой спокойно, рядом с Лехой уютно, рядом с Лехой можно забыть о собственной некрасивости, потому что они с Лехой одной крови.
У него длинный хрящеватый нос, слегка свернутый набок – результат падения с качелей. И лохматые брови, сросшиеся над переносицей и скрывающие еще один шрам – уже от столкновения со стеной. На левой Лехиной щеке живет родимое пятно, на правой – след от ожога.
Леха носит старческие байковые рубашки, заправляя их в джинсы так, что рубашки топорщатся пузырями и узлами. А рукава он закатывает, и худющие, в рыжих волосах и синих венах руки нелепо торчат из мятой ткани.
– Опять, да? – спросил Леха, разбавляя кипятком бледную заварку.
– Опять, – согласилась Ирочка и замолчала – говорить с Лехой было совершенно не о чем – ну не о его же любви к Аленке в самом-то деле! Зато молчать получалось замечательно, ненапряжно. – Лешка, – наконец, когда бледной, пахнущей сеном и отчего-то олифой жидкости осталось на самом донышке, у Ирочки созрел вопрос. – Лешка, что бы ты сказал о человеке, который бы нанял другого человека... ну вроде секретарши, чтобы он... она следила за улицей?
Лехин нос удивленно дернулся.
– Ну вот просто за улицей. Сидела и смотрела в окошко, записывала, какие машины проезжают, во сколько, кто выходит, кто уходит...
– Так не бывает, – весомо заметил Лешка, засовывая в рот сразу несколько сушек. Захрустел.
– Бывает.
– Тогда я бы подумал, что этот, ну твой наниматель, псих.
– А еще почту разбирать. Газеты. И вырезать заметки о нападении собак и маньяков. Знаешь, по-моему, он сам маньяк... – Ирочка постепенно укреплялась в этой своей догадке. – И еще хам.
– Не ходи, – предложил Леха. – Найдешь другую работу. Ну хочешь, можешь мне помогать, мне тоже секретарша нужна, только я тебе платить не смогу, зато комнату дам. Бабкину. Там только убраться надо.
– Не пойду, – согласилась Ирочка, твердо решив никуда и ни за что не ходить. Она ведь не сумасшедшая, в самом-то деле, и потому точно не станет работать на сумасшедшего.
Но утром она, проклиная себя одновременно за слабость и нерасторопность, выбегала из подъезда. Пожалуй, Ирочка и сама не могла бы ответить, бежала ли она от совершенства собственной семьи или же бежала к Тимуру, который Маратович, но можно без отчества, главное, чтобы без фамильярности.
Тимур мучил дверной звонок и себя заодно, терзался надеждой, что звонит зря, дверь не откроют, а если и откроют, то скажут, что Пашка здесь больше не живет.
Переехал. Спился. Повесился. Убрался ко всем чертям.
Но нет, черти Пашкой побрезговали: несло от него, как из бочки, старой, расползающейся бочки, сквозь доски которой просачивается не то смола, не то коньяк, не то вообще какая-нибудь трудноописуемая гадость. Пашка постарел. Пашка обрюзг, раздавшись животом и задницей. Первый переваливался через ремень старых штанов, обвисая бледным бурдюком плоти, вторая гордо топорщилась, грозясь разорвать штаны по шву.
– Че надо? – выдохнул Пашка перегаром и в следующую секунду узнал. – Ты? И вправду ты? Сволочь ты этакая... Сколько лет, сколько зим! Заходи! Господи, ну я думал все, думал, сдох ты в большом мире, или сам, или душою. А ты не сдох! Мать, сюда иди! Поглянь, какие гости!
В узкий коридор выкатилась худенькая серая женщина, наспех запахивающая халат.
– Заходь, заходь! Мать, иди глянь, кто пришел!
Он вопил и хватался руками за пиджак, прихлопывая, пристукивая, цокая языком от удивления и пуская слюни от счастья. Вырваться бы отсюда. Сбежать.
– Мерзость какая!
– А я работу нашла, – выпалила Ирочка, сразу пожалев, что привлекла внимание. Ну вот, Аленка отложила книгу, бабушка – газету, мама – тонкий венский крендель. – Работу нашла. Сегодня. Завтра приступаю. Вот.
– Молодец, – бросил небрежную похвалу папа, и Ирочка зарделась, деля пополам стыд и счастье. Ее редко хвалили. Хотя и ругали тоже редко.
– И кем ты будешь работать? – С шелестом сложила крылья газета.
– Секретарем.
– Господи, Сережа, ну когда это, в конце концов, прекратится! – маменькин голос не пересек недозволенную границу, за которой повышенный тон переходил в истерику, он вообще изменился лишь на самую малость, и малости этой хватило, чтобы Ирочка сжалась.
Зря сказала.
– Она будет работать секретаршей! Моя дочь – и секретарша! Твоя дочь, Сергей!
– Это недопустимо, – согласилась бабушка. – Совершенно недопустимо...
Какие же они все снобы. Подобная мысль приходила Ирочке в голову с завидной регулярностью, но всякий раз она от мысли отказывалась, объясняя ее то собственным несовершенством, то завистью, каковую испытывает к семье.
– Но я ведь работала уже...
– Она работала! – Маменька всплеснула руками и привычно схватилась за голову. – У меня мигрень начинается.
– Ты работала на меня, – наконец вступил в разговор отец. – Это было нормально. Сейчас ты работаешь на какого-то там типа, который...
Он мог говорить долго, они все любили говорить о том, что Арванди – старинный род, и не Ирочке поведением своим пятнать славное прошлое. Хватит! Она уже посмела родиться некрасивой и тем нанесла непоправимый ущерб будущим поколениям Арванди. Ведь известно, что все Арванди – прекрасны.
Прекрасна бабушка в свои чуть за шестьдесят. Осенняя паутина морщин, обласканный прощальным солнцем мрамор кожи, великолепие черт, над каковыми не властно время.
Прекрасна мама в свои чуть за сорок. Ни морщин, ни иных признаков старения, застывшее совершенство и холод драгоценного камня.
Прекрасен отец – сухая строгость черно-белых дагеротипов, выверенные линии лба, носа, губ, подбородка. Выверенные движения, выверенные слова, произнесенные выверенным тоном, в котором сейчас лишь презрение.
Как же, дочь Арванди – и секретарша...
– А я все равно буду работать! – Ирочка почувствовала, как закипает в груди обида, готовая прорваться потоками слез. Она вскочила, прижала ладони к глазам – только не здесь, плачущая, она жалка и уродлива больше обычного. – Я буду, слышите?!
– По-моему, – заметила бабушка, снова разворачивая газету, – девочку следует показать врачу, у нее явно не в порядке с нервами.
– А работа? – Мама не желала отступать.
– А что работа? Пускай. И я когда-то трудилась нянечкой...
Ирочка не стала слушать дальше, она выскочила из комнаты, потом из квартиры и, как была, босиком, прошлепала на третий этаж. Здесь, в квартире номер тридцать три, жил единственный человек, которому было плевать, как она, Ирочка, выглядит. И за это Ирочка его любила.
А он, не скрывая, любил Аленку.
– Привет, – Леха ее появлению не удивился, но обрадовался. – Заходи, я тут чай пью. Будешь?
– С сушками?
– Ага.
– Тогда буду.
Ирочка «была» бы в любом случае, уже хотя бы для того, чтобы этим чаепитием смыть мерзкий осадок от того, прошлого. Рядом с Лехой спокойно, рядом с Лехой уютно, рядом с Лехой можно забыть о собственной некрасивости, потому что они с Лехой одной крови.
У него длинный хрящеватый нос, слегка свернутый набок – результат падения с качелей. И лохматые брови, сросшиеся над переносицей и скрывающие еще один шрам – уже от столкновения со стеной. На левой Лехиной щеке живет родимое пятно, на правой – след от ожога.
Леха носит старческие байковые рубашки, заправляя их в джинсы так, что рубашки топорщатся пузырями и узлами. А рукава он закатывает, и худющие, в рыжих волосах и синих венах руки нелепо торчат из мятой ткани.
– Опять, да? – спросил Леха, разбавляя кипятком бледную заварку.
– Опять, – согласилась Ирочка и замолчала – говорить с Лехой было совершенно не о чем – ну не о его же любви к Аленке в самом-то деле! Зато молчать получалось замечательно, ненапряжно. – Лешка, – наконец, когда бледной, пахнущей сеном и отчего-то олифой жидкости осталось на самом донышке, у Ирочки созрел вопрос. – Лешка, что бы ты сказал о человеке, который бы нанял другого человека... ну вроде секретарши, чтобы он... она следила за улицей?
Лехин нос удивленно дернулся.
– Ну вот просто за улицей. Сидела и смотрела в окошко, записывала, какие машины проезжают, во сколько, кто выходит, кто уходит...
– Так не бывает, – весомо заметил Лешка, засовывая в рот сразу несколько сушек. Захрустел.
– Бывает.
– Тогда я бы подумал, что этот, ну твой наниматель, псих.
– А еще почту разбирать. Газеты. И вырезать заметки о нападении собак и маньяков. Знаешь, по-моему, он сам маньяк... – Ирочка постепенно укреплялась в этой своей догадке. – И еще хам.
– Не ходи, – предложил Леха. – Найдешь другую работу. Ну хочешь, можешь мне помогать, мне тоже секретарша нужна, только я тебе платить не смогу, зато комнату дам. Бабкину. Там только убраться надо.
– Не пойду, – согласилась Ирочка, твердо решив никуда и ни за что не ходить. Она ведь не сумасшедшая, в самом-то деле, и потому точно не станет работать на сумасшедшего.
Но утром она, проклиная себя одновременно за слабость и нерасторопность, выбегала из подъезда. Пожалуй, Ирочка и сама не могла бы ответить, бежала ли она от совершенства собственной семьи или же бежала к Тимуру, который Маратович, но можно без отчества, главное, чтобы без фамильярности.
Тимур мучил дверной звонок и себя заодно, терзался надеждой, что звонит зря, дверь не откроют, а если и откроют, то скажут, что Пашка здесь больше не живет.
Переехал. Спился. Повесился. Убрался ко всем чертям.
Но нет, черти Пашкой побрезговали: несло от него, как из бочки, старой, расползающейся бочки, сквозь доски которой просачивается не то смола, не то коньяк, не то вообще какая-нибудь трудноописуемая гадость. Пашка постарел. Пашка обрюзг, раздавшись животом и задницей. Первый переваливался через ремень старых штанов, обвисая бледным бурдюком плоти, вторая гордо топорщилась, грозясь разорвать штаны по шву.
– Че надо? – выдохнул Пашка перегаром и в следующую секунду узнал. – Ты? И вправду ты? Сволочь ты этакая... Сколько лет, сколько зим! Заходи! Господи, ну я думал все, думал, сдох ты в большом мире, или сам, или душою. А ты не сдох! Мать, сюда иди! Поглянь, какие гости!
В узкий коридор выкатилась худенькая серая женщина, наспех запахивающая халат.
– Заходь, заходь! Мать, иди глянь, кто пришел!
Он вопил и хватался руками за пиджак, прихлопывая, пристукивая, цокая языком от удивления и пуская слюни от счастья. Вырваться бы отсюда. Сбежать.