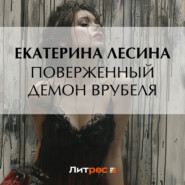По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Медальон льва и солнца
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Плакать? Вот уж нет. Пусть другие плачут, а я буду смеяться, пусть и похоже на истерику.
– Простите, – отсмеявшись (доктор терпеливо ждал, слепив ручки домиком), я вежливо улыбнулась. – Значит, диагноз окончательный? И обжалованию не подлежит?
Он развел руками. Понятно.
– А ошибка? Ведь бывает, что врачи ошибаются…
– Бывает, – согласился он. Теперь, перестав изображать сочувствие, он стал мне почти симпатичен. Почти. – Но вы сами понимаете, Марта Константиновна, что наша клиника…
Дьявольски дорогое удовольствие. И, как оказалось, бесполезное. Через три месяца я умру. Может, раньше, может, позже, как повезет. А с самого утра мне совершенно не везет. День такой.
– Операция? Швейцария, Германия, Америка, Израиль… ведь делают же! Делают!
– Не в вашем случае. – Доктор поправил воротничок рубашки. – Понимаете, Марта Константиновна, мне самому бы хотелось помочь, и даже не потому, что вы удивительно красивы, или умны, или талантливы, а потому, что вы просто есть. Как человек. Тут уже не столь важно, какой человек, все мы заслуживаем права на жизнь, но… но буду откровенен – ничего сделать невозможно. Будь хоть малейший шанс, надежда, пусть и призрачная, я бы постарался, я бы помог, я бы… я бы небо ради вас перевернул, но…
Но приговор подписан. В висках снова закололо: тонкие иглы, точно волосы внутрь головы врастают, в воздухе резко запахло дымом, а рот наполнился вязкой слюной.
Мигрень. Или опухоль, ее вызывающая. Неоперабельная. Быстро растущая.
– Держите. – Викентий Павлович – имя всплыло само и тут же запуталось в силках боли – протянул стакан с водой и круглую таблетку. – Давайте, глотайте и запивайте. Потом станет легче.
Потом уже не будет никогда. Странно это понимать. А минералка с газом оказалась, не люблю такую – пузырьки ударили в нос, и я чихнула. И воду расплескала, на платье, на бумаги и даже немного на льняную рубашку Викентия Павловича. Он укоризненно покачал головой.
– Извините.
– Знаете, я бы порекомендовал вам уехать. На неделю-другую. – Он взял забрызганные бумаги и осторожно перевернул, позволяя воде стечь на пол. – Отключиться от мира, подумать, прийти в согласие с собой. Свыкнуться.
Прозрачные капли скатывались на ковер, оставляя на нем темные пятна, будто сыпь… сыпь у меня возникает от прописанных Викентием Павловичем таблеток, но без них никак, без них – мигрень.
Странно думать о том, что скоро умрешь. Поэтому и отталкиваю мысли, глядя, как на синем ковролине становится все больше и больше водяных пятнышек. А Викентий Павлович – до чего же нелепое имя, но тоже круглое, мягкое, внушающее доверие, – положив бумаги на подоконник, подвинул к себе резную шкатулочку.
– Где же… не то, совсем не то… хочу порекомендовать одно место… не самое известное, не самое разрекламированное, точнее, рекламы они вообще не размещают, но все же… – Откинутая крышка шкатулки позволяла разглядеть содержимое – визитные карточки, стандартные прямоугольники, белые, синие, черные даже, наверное, ритуальные услуги. Интересно, а их Викентий Павлович будет предлагать? – Вот! – он вытащил из шкатулки бледно-зеленый, с серебристой окантовкой прямоугольник. – Место приличное, сервис на уровне, услуги стандартные, но главное – уединенность.
Визитка жесткая, ламинированная, с острыми краями и скругленными углами. Оливково-серебряные тона, сдержанная элегантность шрифтов и, словно в противовес, вычурное название: «Пансионат „Колдовские сны“,» а чуть ниже – «Рещина В.С., директор» и номера телефонов.
– Валечка – золотой человек, настоящая волшебница, поверьте, она знает, что такое настоящий отдых, и для тела, и для души…
Вечером я напилась. А утром позвонила Валечке.
Никита
Хватит с него! Хватит.
– Хватит, – повторил Никита своему отражению в зеркале. То в ответ шевельнуло губами и застыло, раздраженно глядя на него. Бог ты мой, до чего он докатился-то? Красная рожа, белая щетина, опухшие глаза и волосы дыбом.
– Никуша, ты уже встал? – На пороге появилось черноволосое встрепанное существо, кутающееся в его рубашку. Рубашка была мятой, с расплывшимся по груди винным пятном и оборванным – когда только успелось – карманом. – Никуша, от головы есть что?
Существо сунуло руки в черные патлы волос и зевнуло. Господи, зовут-то ее как? Анжела вроде. Или Мила?
Вот ведь пошлость, проснуться с головной болью и девушкой, имя которой прочно затерялась в алкогольном хаосе мыслей. Девушка, так и не дождавшись ответа, прошлепала на кухню. Если повезет, то она сварит кофею.
– Сволочь ты, Жуков, – сказал Никита отражению и повторил данное обещание: – Все, хватит, больше никаких загулов. И никаких баб. И вообще приличным человеком стану.
Отражение скривилось, не поверило.
– Не верю. – Бальчевский постукивал ручкой по столу. Нарочно, гад: знает, что голова у Никиты трещит, несмотря на кофе и таблетку аспирина. В желудке тяжелым комком давили сварганенные Ликой – девицу звали Ликой – бутерброды. – Вот не верю я, Никитос, что ты еще на что-то способен. – Бальчевский воткнул ручку в бронзовую драконью тушку, аккурат между перепончатыми крыльями, и Никите на миг почудилось, будто дракон зашипел от боли. Или это он сам зашипел? Оттого, что в голове, ближе к затылку, огненный шар взорвался. – Ты посмотри на себя, Жуков. Во что ты превратился?
– Да ладно тебе, нормал же все… – Льда бы холодного, вот прямо к затылку приложить большой-большой пакет. И на диванчик лечь, ноги вытянуть, жалюзи на окнах закрыть, и шторы тоже, и телефон к чертовой бабушке отключить. И звонок дверной. Лежать, наслаждаясь тишиной и покоем.
– Нет, Никитос, не нормал. Далеко не нормал. Два твоих последних концерта едва-едва не провалились… про сольник забудь, про более-менее крупные площадки тоже. И не потому, что ты поешь хреново, нет, это единственное, что ты нормально делаешь, а потому, что ты урод конченый и связываться с тобою серьезным людям неохота. И мне на тебя давным-давно плюнуть надо было и оставить, позволить захлебнуться в собственном дерьме и самомнении.
– Жорка, прекращай, а?
– Прекращу. Когда закончу и выскажу наконец все, что хочу. – Бальчевский поднялся, подошел к окну, повернулся спиной и ручки сзади скрестил. Рисуется, падла, морали читает. Возится он… да за свою возню он и бабки нехилые гребет. На его, на Никитовы кровные, и костюмчик куплен, и ботинки эти, до блеску начищенные, и кабинет обставлен… мог бы диван прикупить или хотя бы кресло поудобнее, а то в этом душно и тесно, ни повернуться, ни голову больную примостить поудобнее. Ох ты, Господи боже мой, скорей бы эти нотации закончились…
– Ты, Никитос, был звездой. И главное слово здесь – «был». Звезд хватает, каждый год, каждую долбаную неделю по десятку новых выходит. А ты – все, тираж, прости-прощай романтичный юноша, поющий о любви… ты себя в зеркале видел? Рожу свою испитую? Какая романтика? Тюремная максимум. И юношей тебя уже не назовешь. Ты дед, Никитос, ты старый, надоевший всем до зубовного скрежета дед, у которого не достает духу самому себе признаться, что он смешон. Милая моя, драгоценная, есть одна любовь, но бесценная…
Тонкий фальцет Бальчевского вскрыл череп, зазвенел в ушах, вызывая волны такой дикой боли, что Никиту едва не стошнило.
– Прекрати!
– Не нравится? А людям, думаешь, нравится видеть здорового мужика, который по привычке думает, что он молод? – Жора принялся мерить кабинет шагами, худой, длинный, в черном строгом костюме похожий на гробовщика. Прилизанные, разобранные на ровненький пробор волосы такой длины, чтоб прикрывали чуть оттопыренные уши, бледная кожа, почти сливающаяся по цвету с белой рубашкой, строгий галстук в узкую полоску, кольцо на руке, одно-единственное, обручальное. Правильный, значит, офигенно правильный, до того, что прям тошно от этой правильности. Да кто он такой? Агент? Да таких агентов, стоит свистнуть, сотня прибежит.
Или не прибежит? Головная боль мешала думать.
– Да, когда-то ты попал в десятку, внешность, голос, репертуар… – задумчиво произнес Бальчевский, останавливаясь напротив. От него несло туалетной водой, и Никиту снова едва не вывернуло. Ей-богу, был бы бабой, забеспокоился б. – Но это было давно, Никитос. Это было дьявольски давно. Я предлагал тебе пересмотреть, поработать, уйти на время, чтобы вернуться в новом образе, но ты не захотел. Тебе было лень меняться. Зачем, если все и так работает?
Работало, а ведь и вправду работало, родное, выгрызенное, вытащенное, каждая чертова песня как кровью писанная, ведь сам же, все сам, и слова, и музыка, и… и оценили же!
Никита Жуков – звезда. Никиту все знают.
Или знали? Нет, не выходит думать, голова трещит.
– Ушел бы на годик, – Бальчевский говорил уже спокойно, даже задумчиво. Уж лучше б орал, он всегда орал, а потом успокаивался и находил выход, придумывал что-то, чтоб зацепиться на скользкой вершине. Вот этот новый тон Никите не нравился, чудилась в нем некая обреченность. – Или даже на полгода. И вернулся бы, с достоинством, к людям, которые тебя помнят, которые росли вместе с тобой, которые дрыгали на танцплощадках и дискотеках ногами под твои песни, которые под них целовались и трахались, думая, что это – любовь. Только эти люди, Никитос, выросли, у них семьи, работа, дети, другая жизнь, другие проблемы, и тебя они послушают, разве чтоб ностальгию подпитать. Им чего-то другого уже надо, а новому поколению ты, извини, давно неинтересен. Ты меня слушаешь?
Никита кивнул. Слушает. Бальчевского невозможно не слушать. Значит, выросли… когда выросли? Когда Никитос в девяностых пытался пробиться? Пел он что-то… а уже и не вспомнишь, что именно. Гастроли были по России, дефицит, безденежье вечное, гостиницы, в которых не то что тараканы – крысы по коридорам шастали, клубы с раздолбанной, разворованной аппаратурой, люди, которые ждут от тебя чуда, потому как за это чудо заплатили деньги, а денег мало. И желание это чудо дать, хотя бы ненадолго, хотя бы для того, чтоб самому согреться, отвлечься, забыть.
Когда же пришла слава? И была ли она вообще? Наверное, была: гостиницы получше, охрана у номеров, цветы от поклонников и поклонниц, сами поклонницы – фанатки, теперь это называется фанатки, – готовые на все, и от этой готовности поначалу даже страшно, а потом ничего, привык, стал принимать как должное. Люди на концертах, пришедшие уже ради него, Никиты Жукова, почти бога…
Пощечина вывела из размышлений.
– Ты что же, Жуков, скотина этакая? Я перед тобою тут распинаюсь, прямо из шкуры выпрыгиваю, а ты дрыхнешь? – Бальчевский вцепился в ворот рубахи, потянул вверх, пришлось встать таким. Хреново-то как… а Жорка, гад, не отпускает, крепко держит и глядит сверху вниз, с презрением, будто Никита ему должен. – Я от тебя откажусь, Жуков. Разойдемся, и гуляй. Хочешь, спивайся, хочешь – утрахайся до смерти, хочешь, на иглу подсядь. Мне уже по фиг будет.
– Жор, ну ты чего?
– Я? Я ничего, я говорю, как оно есть. Либо ты берешься за ум и делаешь то, что я говорю, либо – до свиданья. Ясно, Никитос?
Жуков кивнул. И его стошнило. Прямо на Жоркин черный похоронный костюм и строгий галстук в узкую полоску.
– Простите, – отсмеявшись (доктор терпеливо ждал, слепив ручки домиком), я вежливо улыбнулась. – Значит, диагноз окончательный? И обжалованию не подлежит?
Он развел руками. Понятно.
– А ошибка? Ведь бывает, что врачи ошибаются…
– Бывает, – согласился он. Теперь, перестав изображать сочувствие, он стал мне почти симпатичен. Почти. – Но вы сами понимаете, Марта Константиновна, что наша клиника…
Дьявольски дорогое удовольствие. И, как оказалось, бесполезное. Через три месяца я умру. Может, раньше, может, позже, как повезет. А с самого утра мне совершенно не везет. День такой.
– Операция? Швейцария, Германия, Америка, Израиль… ведь делают же! Делают!
– Не в вашем случае. – Доктор поправил воротничок рубашки. – Понимаете, Марта Константиновна, мне самому бы хотелось помочь, и даже не потому, что вы удивительно красивы, или умны, или талантливы, а потому, что вы просто есть. Как человек. Тут уже не столь важно, какой человек, все мы заслуживаем права на жизнь, но… но буду откровенен – ничего сделать невозможно. Будь хоть малейший шанс, надежда, пусть и призрачная, я бы постарался, я бы помог, я бы… я бы небо ради вас перевернул, но…
Но приговор подписан. В висках снова закололо: тонкие иглы, точно волосы внутрь головы врастают, в воздухе резко запахло дымом, а рот наполнился вязкой слюной.
Мигрень. Или опухоль, ее вызывающая. Неоперабельная. Быстро растущая.
– Держите. – Викентий Павлович – имя всплыло само и тут же запуталось в силках боли – протянул стакан с водой и круглую таблетку. – Давайте, глотайте и запивайте. Потом станет легче.
Потом уже не будет никогда. Странно это понимать. А минералка с газом оказалась, не люблю такую – пузырьки ударили в нос, и я чихнула. И воду расплескала, на платье, на бумаги и даже немного на льняную рубашку Викентия Павловича. Он укоризненно покачал головой.
– Извините.
– Знаете, я бы порекомендовал вам уехать. На неделю-другую. – Он взял забрызганные бумаги и осторожно перевернул, позволяя воде стечь на пол. – Отключиться от мира, подумать, прийти в согласие с собой. Свыкнуться.
Прозрачные капли скатывались на ковер, оставляя на нем темные пятна, будто сыпь… сыпь у меня возникает от прописанных Викентием Павловичем таблеток, но без них никак, без них – мигрень.
Странно думать о том, что скоро умрешь. Поэтому и отталкиваю мысли, глядя, как на синем ковролине становится все больше и больше водяных пятнышек. А Викентий Павлович – до чего же нелепое имя, но тоже круглое, мягкое, внушающее доверие, – положив бумаги на подоконник, подвинул к себе резную шкатулочку.
– Где же… не то, совсем не то… хочу порекомендовать одно место… не самое известное, не самое разрекламированное, точнее, рекламы они вообще не размещают, но все же… – Откинутая крышка шкатулки позволяла разглядеть содержимое – визитные карточки, стандартные прямоугольники, белые, синие, черные даже, наверное, ритуальные услуги. Интересно, а их Викентий Павлович будет предлагать? – Вот! – он вытащил из шкатулки бледно-зеленый, с серебристой окантовкой прямоугольник. – Место приличное, сервис на уровне, услуги стандартные, но главное – уединенность.
Визитка жесткая, ламинированная, с острыми краями и скругленными углами. Оливково-серебряные тона, сдержанная элегантность шрифтов и, словно в противовес, вычурное название: «Пансионат „Колдовские сны“,» а чуть ниже – «Рещина В.С., директор» и номера телефонов.
– Валечка – золотой человек, настоящая волшебница, поверьте, она знает, что такое настоящий отдых, и для тела, и для души…
Вечером я напилась. А утром позвонила Валечке.
Никита
Хватит с него! Хватит.
– Хватит, – повторил Никита своему отражению в зеркале. То в ответ шевельнуло губами и застыло, раздраженно глядя на него. Бог ты мой, до чего он докатился-то? Красная рожа, белая щетина, опухшие глаза и волосы дыбом.
– Никуша, ты уже встал? – На пороге появилось черноволосое встрепанное существо, кутающееся в его рубашку. Рубашка была мятой, с расплывшимся по груди винным пятном и оборванным – когда только успелось – карманом. – Никуша, от головы есть что?
Существо сунуло руки в черные патлы волос и зевнуло. Господи, зовут-то ее как? Анжела вроде. Или Мила?
Вот ведь пошлость, проснуться с головной болью и девушкой, имя которой прочно затерялась в алкогольном хаосе мыслей. Девушка, так и не дождавшись ответа, прошлепала на кухню. Если повезет, то она сварит кофею.
– Сволочь ты, Жуков, – сказал Никита отражению и повторил данное обещание: – Все, хватит, больше никаких загулов. И никаких баб. И вообще приличным человеком стану.
Отражение скривилось, не поверило.
– Не верю. – Бальчевский постукивал ручкой по столу. Нарочно, гад: знает, что голова у Никиты трещит, несмотря на кофе и таблетку аспирина. В желудке тяжелым комком давили сварганенные Ликой – девицу звали Ликой – бутерброды. – Вот не верю я, Никитос, что ты еще на что-то способен. – Бальчевский воткнул ручку в бронзовую драконью тушку, аккурат между перепончатыми крыльями, и Никите на миг почудилось, будто дракон зашипел от боли. Или это он сам зашипел? Оттого, что в голове, ближе к затылку, огненный шар взорвался. – Ты посмотри на себя, Жуков. Во что ты превратился?
– Да ладно тебе, нормал же все… – Льда бы холодного, вот прямо к затылку приложить большой-большой пакет. И на диванчик лечь, ноги вытянуть, жалюзи на окнах закрыть, и шторы тоже, и телефон к чертовой бабушке отключить. И звонок дверной. Лежать, наслаждаясь тишиной и покоем.
– Нет, Никитос, не нормал. Далеко не нормал. Два твоих последних концерта едва-едва не провалились… про сольник забудь, про более-менее крупные площадки тоже. И не потому, что ты поешь хреново, нет, это единственное, что ты нормально делаешь, а потому, что ты урод конченый и связываться с тобою серьезным людям неохота. И мне на тебя давным-давно плюнуть надо было и оставить, позволить захлебнуться в собственном дерьме и самомнении.
– Жорка, прекращай, а?
– Прекращу. Когда закончу и выскажу наконец все, что хочу. – Бальчевский поднялся, подошел к окну, повернулся спиной и ручки сзади скрестил. Рисуется, падла, морали читает. Возится он… да за свою возню он и бабки нехилые гребет. На его, на Никитовы кровные, и костюмчик куплен, и ботинки эти, до блеску начищенные, и кабинет обставлен… мог бы диван прикупить или хотя бы кресло поудобнее, а то в этом душно и тесно, ни повернуться, ни голову больную примостить поудобнее. Ох ты, Господи боже мой, скорей бы эти нотации закончились…
– Ты, Никитос, был звездой. И главное слово здесь – «был». Звезд хватает, каждый год, каждую долбаную неделю по десятку новых выходит. А ты – все, тираж, прости-прощай романтичный юноша, поющий о любви… ты себя в зеркале видел? Рожу свою испитую? Какая романтика? Тюремная максимум. И юношей тебя уже не назовешь. Ты дед, Никитос, ты старый, надоевший всем до зубовного скрежета дед, у которого не достает духу самому себе признаться, что он смешон. Милая моя, драгоценная, есть одна любовь, но бесценная…
Тонкий фальцет Бальчевского вскрыл череп, зазвенел в ушах, вызывая волны такой дикой боли, что Никиту едва не стошнило.
– Прекрати!
– Не нравится? А людям, думаешь, нравится видеть здорового мужика, который по привычке думает, что он молод? – Жора принялся мерить кабинет шагами, худой, длинный, в черном строгом костюме похожий на гробовщика. Прилизанные, разобранные на ровненький пробор волосы такой длины, чтоб прикрывали чуть оттопыренные уши, бледная кожа, почти сливающаяся по цвету с белой рубашкой, строгий галстук в узкую полоску, кольцо на руке, одно-единственное, обручальное. Правильный, значит, офигенно правильный, до того, что прям тошно от этой правильности. Да кто он такой? Агент? Да таких агентов, стоит свистнуть, сотня прибежит.
Или не прибежит? Головная боль мешала думать.
– Да, когда-то ты попал в десятку, внешность, голос, репертуар… – задумчиво произнес Бальчевский, останавливаясь напротив. От него несло туалетной водой, и Никиту снова едва не вывернуло. Ей-богу, был бы бабой, забеспокоился б. – Но это было давно, Никитос. Это было дьявольски давно. Я предлагал тебе пересмотреть, поработать, уйти на время, чтобы вернуться в новом образе, но ты не захотел. Тебе было лень меняться. Зачем, если все и так работает?
Работало, а ведь и вправду работало, родное, выгрызенное, вытащенное, каждая чертова песня как кровью писанная, ведь сам же, все сам, и слова, и музыка, и… и оценили же!
Никита Жуков – звезда. Никиту все знают.
Или знали? Нет, не выходит думать, голова трещит.
– Ушел бы на годик, – Бальчевский говорил уже спокойно, даже задумчиво. Уж лучше б орал, он всегда орал, а потом успокаивался и находил выход, придумывал что-то, чтоб зацепиться на скользкой вершине. Вот этот новый тон Никите не нравился, чудилась в нем некая обреченность. – Или даже на полгода. И вернулся бы, с достоинством, к людям, которые тебя помнят, которые росли вместе с тобой, которые дрыгали на танцплощадках и дискотеках ногами под твои песни, которые под них целовались и трахались, думая, что это – любовь. Только эти люди, Никитос, выросли, у них семьи, работа, дети, другая жизнь, другие проблемы, и тебя они послушают, разве чтоб ностальгию подпитать. Им чего-то другого уже надо, а новому поколению ты, извини, давно неинтересен. Ты меня слушаешь?
Никита кивнул. Слушает. Бальчевского невозможно не слушать. Значит, выросли… когда выросли? Когда Никитос в девяностых пытался пробиться? Пел он что-то… а уже и не вспомнишь, что именно. Гастроли были по России, дефицит, безденежье вечное, гостиницы, в которых не то что тараканы – крысы по коридорам шастали, клубы с раздолбанной, разворованной аппаратурой, люди, которые ждут от тебя чуда, потому как за это чудо заплатили деньги, а денег мало. И желание это чудо дать, хотя бы ненадолго, хотя бы для того, чтоб самому согреться, отвлечься, забыть.
Когда же пришла слава? И была ли она вообще? Наверное, была: гостиницы получше, охрана у номеров, цветы от поклонников и поклонниц, сами поклонницы – фанатки, теперь это называется фанатки, – готовые на все, и от этой готовности поначалу даже страшно, а потом ничего, привык, стал принимать как должное. Люди на концертах, пришедшие уже ради него, Никиты Жукова, почти бога…
Пощечина вывела из размышлений.
– Ты что же, Жуков, скотина этакая? Я перед тобою тут распинаюсь, прямо из шкуры выпрыгиваю, а ты дрыхнешь? – Бальчевский вцепился в ворот рубахи, потянул вверх, пришлось встать таким. Хреново-то как… а Жорка, гад, не отпускает, крепко держит и глядит сверху вниз, с презрением, будто Никита ему должен. – Я от тебя откажусь, Жуков. Разойдемся, и гуляй. Хочешь, спивайся, хочешь – утрахайся до смерти, хочешь, на иглу подсядь. Мне уже по фиг будет.
– Жор, ну ты чего?
– Я? Я ничего, я говорю, как оно есть. Либо ты берешься за ум и делаешь то, что я говорю, либо – до свиданья. Ясно, Никитос?
Жуков кивнул. И его стошнило. Прямо на Жоркин черный похоронный костюм и строгий галстук в узкую полоску.