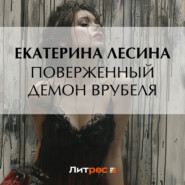По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Черная книга русалки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ох ты, Господи, – сказала Малашка, кнут отбросив. – Ну Ефимия, ну совсем страх божий потеряла!
Погрозила кулаком в небо, вздохнула, прижала к себе да заплакала. И так Микитке от тех ее слез горько стало, что и он сам не выдержал, хотя ж слово давал самому себе да крест на земле чертил и кровью кропил, клятву скрепляя: не будет он плакать. Пусть бы и били, пусть бы и голодом морили, пусть бы даже на ночь в порубе заперли – не будет и все.
И держался, даже когда дядька с Фимкиных наговоров розги брал, а тут вот... вот пахло от Малашки молоком да навозом, цветочками какими-то и хлебом свежим. И ласковая она, пусть себе и ведьма, ну так не злая же, не из тех, что детей малых крадет... а вот бы и украла, унесла за леса да за горы, за железные заборы, заточила в горе под Змея приглядом, он бы на все согласился, лишь бы отсюдова сбежать.
– Забери меня, тетечка ведьма... – взвыл Микитка. – Я все тебе делать буду. Я умею. Я не ленивый вовсе, и...
– Некуда забирать, – ответила Малашка, как-то вдруг рассердившись. Отпихнула и строго велела: – Назад иди. Не гневи Бога, ибо есть у тебя родня, с нею и жить. Дядьки держись, а Фимка... найдется и на нее управа.
Спорить Микитка не стал, непривыкши был, вытер глаза, носом хлюпнул да побрел назад. Ох, летит дорога, то ли лентой на землю ложится, то ли рекою пыльною стелется, к небу тянется, того и гляди, вольется, подымет Микитку далеко-далеко, высоко-высоко по-над землею. И к облакам прямо, где и тятька, и мамка, и Сергунька, младший Микиткин братец, ждут небось, дивятся, что медлит старшенький, да обиды его собирают, им-то сверху все видно.
День шел почти обыкновенно. Куры, гуси, рыжий, драчливый петух, таки клюнувший Микитку в лоб, пустые щи на обед да ломоть хлеба, но вот странность – не лез он в горло, а голод, с которым Микитка уже свыкся, сжился, вдруг отступил, сменившись непонятной слабостью. Спать охота была... но разве ж дадут? То одно сделать, то другое, то третье...
Он и не понял, как оказался в овине. Тихо тут, стоят пустые лари, готовые принять и тяжелое зерно нового урожая, и мешки с белой, легкой мукой, каковую привезут с мельницы чуть позже, высятся загородки для репы, сохнут бочки для капусты и огурцов... Пахло едой и покоем. Что-то шуршало в соломе, похрустывало, поскрипывало, витали в воздухи былинки, вилась мошкара.
Микитка устроился в дальнем углу, на разворошенном тюке соломы и, стянув рубаху, кое-как скомкал, сунул под голову и глаза закрыл. Он всего-то на минуточку... на одну минуточку... Фимка и не заметит, Фимка Нюрку распекает за... а какое ему дело, за что? Фимка невестку на дух не переносит, только ко внуку и ласковая...
А дорога-то и вправду в небо тянется. Идет Микитка по ней, горячий камень ноги жжет, пыль подымается, солнце сверху припекает; но хорошо ему, легко, охота и вовсе в бег сорваться. Только негоже бегать, ему уже десять почти, не постреленок... а дорога выше и выше, уходит вниз обочина с серой травой, и поле, и луг, и рощица березовая уже будто бы не со стороны, а сверху видится, и пруд за ней точно зеркальце отсверкивает, отливает синевой. И колейка Малашкина вон, вытянулась вдоль пруда, глядится рыже-черно-бурыми коровьими спинами. И сама Малашка с муравейчика величиною, но лицо-то видно, светлое, счастливое, радуется она за Микитку, руками машет. И он бы ей помахал, да только знает – нельзя ему останавливаться, дальше идти надо.
Вот по-над рекой дорога протянулась, плывет, вихляет, повторяет каждый поворот. Озеро... огромное какое. Просто-таки неоглядное, а может, и не озеро вовсе, а море-окиян, за которым страны неизведанные, про каковые Егорке еврей, грамоте обучать нанятый, сказывает. Неужто туда путь? Страшно-то как...
Бегут по-над озером волны, накатывают друг на друга, глубину несказанную скрывая ото всех, но не от Микитки. И видит он, что там, где зелено, там мелко; где синевой вода рядится, там глубже – ходит косяками рыба, дремлют в сплетениях водорослей щуки, спят в омутах сомы. А вот там, где и вовсе озеро черно, – яма глубокая, что твой колодец, и свет солнышка вовнутрь не проникает. Но все одно, видно Микитке и без света, что сидит в ямине, к самому дну прильнув, зверь невиданный. Не щука, не рыба вовсе, а словно бы человек, баба, телом сдобная, богатая, волосом длинная. Да не просто сидит, а гребнем резным, ракушками да жемчугами украшенным, космы чешет. А как счешет волосья, так комкает да в стороночку кидает; те же вверх подымаются, расползаются водой черной, ядовитою. И бледнеют в ней травы, и грязью песочек речной оборачивается, и рыба, ежели хоть бы плавничком коснется, тотчас брюхом кверху кувыркается, а уж если человек попадется, то недолго ему век коротать – сгинет от хвори неведомой.
А баба водяная знай себе чешет...
Ох и страшно стало Микитке, аж дух перехватило, что сейчас заметит его, руку протянет да и стащит с дороги в омут. А там холодно да темно, и ни жизни, ни смерти, ни душеньки. Взмолился тогда Микитка к святым угодникам и Богородице пречистой и за крестик нательный рукой цап – а нету крестика. Снял кто-то, когда Микитка заснувши был.
Фимка! Как есть она! Сироту погубить решилась!
И только понял – поплыла дорога под ногами, исчезая. Полетел Микитка с высей поднебесных в самый русалочий омут, только и успел, что в последний раз перекреститься. Зазвенело вокруг, точно не в воду – в колокол медный рухнул, хлынуло в рот, в нос, дыхание перебивая, и забился Микитка, норовя выплыть, – да тщетно, тянет ко дну, одежа тяжелая, тело чужое, руки и ноги не шевелятся.
Утоп.
Только и не утоп. Дышать не дышит, сердце в грудях не колотится, и холод такой, что прям хоть второй раз помирай. А под ногами дно, и ил ковром персидским, и раковины розовые узорами по нему, и рыбок серебро живое, и солнышка вдосталь, правда, не греет нисколечки, зато радугой разноцветною разливается.
Иначе все, чем сверху, только вот баба та же. Нет, не баба – девка, вроде Шурки соседской, к которой уже трое сватались, такая красавица. И эта не хуже, а то и получше. Вон личико-то круглое, чистое, брови соболиные, точно угольками вычерченные, губы маками цветут, глаза бирюзой отливают.
Про бирюзу Микитка слышал от того же еврея, что Егорку грамоте обучать нанят, и вот сразу понял, какая она есть.
А волос, волос у девки водяной – чисто из лучей солнечных сплетен, и длинен, и тяжел, и удержу нет, до того потрогать охота. Может, разрешит? Ведь не злая же, улыбается, глядит ласково, гребешок к груди прижавши.
– Кто ты, мальчик? – Голос качнул воду, рассыпался золотыми искорками, а те в раковинки упали, прорастут потом жемчужинами.
– Микитка я, – ответил Микитка, шапку стягивая, поклонился степенно и рукой по илу мазанул, видел, как дядька так барина приветствует. Хорошо вышло, рассмеялась девица.
– Как ты сюда попал? Неужели утонул? Но нет... утопленники ко мне не доходят, утопленников ваши забирают... – помянула и нахмурилась, вроде только бровки сошлись над переносицей, а Микитку такой страх обуял – словами и не передать. – С крестом пришел?
– Н-нет. Фимка украла!
– Повезло тебе. Я тех, кто с крестом в царство мое является, не люблю. Многие беды от них...
– Какие? – Микитка осмелел и уже не одним глазком, а обоими на девку пялился. И срамна она – нагишом сидит, только сеткою из волос да зеленой травы водяной прикрытая – и хороша, и томление вызывает, и стыдно, и глаз отвесть никак невозможно.
– Всякие. Что, нравлюсь?
– Нравишься.
– Мал ты еще на женщин смотреть. – Поднялась, гребень отложила, подошла к Микитке и, в глаза заглянув, сказала: – Крещен, но без креста... не утонул, но пришел... редкий дар тебе даден.
Ледяные пальцы ее коснулись подбородка, обожгли до самого Микиткиного нутра, но ни словечка он не вымолвил, закоченел весь под строгим русалочьим взглядом.
– Смотри не прогадай, на пустяки не изведи, зла не твори, добра не забывай. Всего в тебе поровну, что белого, что черного... кривым ли вырастешь, прямым ли... отпускать ли тебя? Иль тут оставить?
– Отпусти, хозяюшка.
– Это верно, хозяйка я Кирмень-озеру, как решу, так и будет. Значит, хочешь наверх, на волю? К тем, кто тебя сюда отправил? Не боишься?
– Не боюсь, – понял вдруг Микитка, что и вправду не боится, потому как силу в себе ощутил такую, которой и названия-то нету. Не страшна ему теперь ни Фимка, ни петух ее лядащий, ни Забава рыжая, ни вообще кто из людей. Слабы они, а Микитка силен.
Вот только водяница посильнее будет, оттого как не людского она племени, а того, о котором ныне только в сказках и услышишь.
Поняла, подслушала мысли, покачала головой и, руку убрав, вздохнула:
– Рано ты силушку-то почуял, как бы не испортила она тебя. Останься тут, разве плохо?
Хорошо. Как в палатах царевны-лебеди, как в горе стеклянной, где змей трехглавый сокровище да чудо-девицу стережет, как нигде на земле хорошо, но Микитке красота эта в тягость. Наверх его тянет, манит, зовет.
– Да, неуютно человеку во владениях моих. Что ж, не знаю, как должно быть бы, но силком тебя держать не стану. Запомни волю мою добрую, а лучше службу сослужи.
– Все, что скажешь! – пообещал Микитка, обрадовавшись.
– Не торопись словами-то кидаться, – укорила водяница, снова на лавочку жемчужную усаживаясь. – За каждое данное после ответ держать придется. Ну да я о многом не попрошу. Найди человека одного, Яковом Брюсом кличут. Вот так выглядит.
Повела рукой, и сгустилась вода, слиплась серебряным зеркалом, а в нем – отражение. И снова дивно – вроде как Микитка и каждую черточку видит, но вроде и неважны они, иное запоминается. Белое вот, самая малость, одуванчиково-желтое, травяно-зеленое, и темно-синее, грозовое...
– Правильно смотришь, – похвалила водяница, зеркало свое убирая. – Тебе теперь только так людей видеть, зато не ошибешься.
И понятно все: синее – значит, смелый человек, холодный разумом и крепкий волей, белизна – это от чистоты помыслов, желтое – значит, гневлив и вспыльчив. Много цветов, много оттенков, и каждый что-то да означает.
– Найдешь и спросишь: крепок ли уговор? И готов ли он вернуть то, что в долг взял?
– И тебе принести?
– Нет. Если готов, пусть сам и приходит, скажи, что не обижу. Ну а заупрямится – передай, что во многих знаниях многие же беды.
– А как я его найду? И если не быстро? Быстро меня из дому не отпустят.
– Найдешь, – пообещала она. – Когда-нибудь да найдешь. Я время иначе слышу, чем вы, люди... он тоже. Все, Никита, ступай теперь.
Погрозила кулаком в небо, вздохнула, прижала к себе да заплакала. И так Микитке от тех ее слез горько стало, что и он сам не выдержал, хотя ж слово давал самому себе да крест на земле чертил и кровью кропил, клятву скрепляя: не будет он плакать. Пусть бы и били, пусть бы и голодом морили, пусть бы даже на ночь в порубе заперли – не будет и все.
И держался, даже когда дядька с Фимкиных наговоров розги брал, а тут вот... вот пахло от Малашки молоком да навозом, цветочками какими-то и хлебом свежим. И ласковая она, пусть себе и ведьма, ну так не злая же, не из тех, что детей малых крадет... а вот бы и украла, унесла за леса да за горы, за железные заборы, заточила в горе под Змея приглядом, он бы на все согласился, лишь бы отсюдова сбежать.
– Забери меня, тетечка ведьма... – взвыл Микитка. – Я все тебе делать буду. Я умею. Я не ленивый вовсе, и...
– Некуда забирать, – ответила Малашка, как-то вдруг рассердившись. Отпихнула и строго велела: – Назад иди. Не гневи Бога, ибо есть у тебя родня, с нею и жить. Дядьки держись, а Фимка... найдется и на нее управа.
Спорить Микитка не стал, непривыкши был, вытер глаза, носом хлюпнул да побрел назад. Ох, летит дорога, то ли лентой на землю ложится, то ли рекою пыльною стелется, к небу тянется, того и гляди, вольется, подымет Микитку далеко-далеко, высоко-высоко по-над землею. И к облакам прямо, где и тятька, и мамка, и Сергунька, младший Микиткин братец, ждут небось, дивятся, что медлит старшенький, да обиды его собирают, им-то сверху все видно.
День шел почти обыкновенно. Куры, гуси, рыжий, драчливый петух, таки клюнувший Микитку в лоб, пустые щи на обед да ломоть хлеба, но вот странность – не лез он в горло, а голод, с которым Микитка уже свыкся, сжился, вдруг отступил, сменившись непонятной слабостью. Спать охота была... но разве ж дадут? То одно сделать, то другое, то третье...
Он и не понял, как оказался в овине. Тихо тут, стоят пустые лари, готовые принять и тяжелое зерно нового урожая, и мешки с белой, легкой мукой, каковую привезут с мельницы чуть позже, высятся загородки для репы, сохнут бочки для капусты и огурцов... Пахло едой и покоем. Что-то шуршало в соломе, похрустывало, поскрипывало, витали в воздухи былинки, вилась мошкара.
Микитка устроился в дальнем углу, на разворошенном тюке соломы и, стянув рубаху, кое-как скомкал, сунул под голову и глаза закрыл. Он всего-то на минуточку... на одну минуточку... Фимка и не заметит, Фимка Нюрку распекает за... а какое ему дело, за что? Фимка невестку на дух не переносит, только ко внуку и ласковая...
А дорога-то и вправду в небо тянется. Идет Микитка по ней, горячий камень ноги жжет, пыль подымается, солнце сверху припекает; но хорошо ему, легко, охота и вовсе в бег сорваться. Только негоже бегать, ему уже десять почти, не постреленок... а дорога выше и выше, уходит вниз обочина с серой травой, и поле, и луг, и рощица березовая уже будто бы не со стороны, а сверху видится, и пруд за ней точно зеркальце отсверкивает, отливает синевой. И колейка Малашкина вон, вытянулась вдоль пруда, глядится рыже-черно-бурыми коровьими спинами. И сама Малашка с муравейчика величиною, но лицо-то видно, светлое, счастливое, радуется она за Микитку, руками машет. И он бы ей помахал, да только знает – нельзя ему останавливаться, дальше идти надо.
Вот по-над рекой дорога протянулась, плывет, вихляет, повторяет каждый поворот. Озеро... огромное какое. Просто-таки неоглядное, а может, и не озеро вовсе, а море-окиян, за которым страны неизведанные, про каковые Егорке еврей, грамоте обучать нанятый, сказывает. Неужто туда путь? Страшно-то как...
Бегут по-над озером волны, накатывают друг на друга, глубину несказанную скрывая ото всех, но не от Микитки. И видит он, что там, где зелено, там мелко; где синевой вода рядится, там глубже – ходит косяками рыба, дремлют в сплетениях водорослей щуки, спят в омутах сомы. А вот там, где и вовсе озеро черно, – яма глубокая, что твой колодец, и свет солнышка вовнутрь не проникает. Но все одно, видно Микитке и без света, что сидит в ямине, к самому дну прильнув, зверь невиданный. Не щука, не рыба вовсе, а словно бы человек, баба, телом сдобная, богатая, волосом длинная. Да не просто сидит, а гребнем резным, ракушками да жемчугами украшенным, космы чешет. А как счешет волосья, так комкает да в стороночку кидает; те же вверх подымаются, расползаются водой черной, ядовитою. И бледнеют в ней травы, и грязью песочек речной оборачивается, и рыба, ежели хоть бы плавничком коснется, тотчас брюхом кверху кувыркается, а уж если человек попадется, то недолго ему век коротать – сгинет от хвори неведомой.
А баба водяная знай себе чешет...
Ох и страшно стало Микитке, аж дух перехватило, что сейчас заметит его, руку протянет да и стащит с дороги в омут. А там холодно да темно, и ни жизни, ни смерти, ни душеньки. Взмолился тогда Микитка к святым угодникам и Богородице пречистой и за крестик нательный рукой цап – а нету крестика. Снял кто-то, когда Микитка заснувши был.
Фимка! Как есть она! Сироту погубить решилась!
И только понял – поплыла дорога под ногами, исчезая. Полетел Микитка с высей поднебесных в самый русалочий омут, только и успел, что в последний раз перекреститься. Зазвенело вокруг, точно не в воду – в колокол медный рухнул, хлынуло в рот, в нос, дыхание перебивая, и забился Микитка, норовя выплыть, – да тщетно, тянет ко дну, одежа тяжелая, тело чужое, руки и ноги не шевелятся.
Утоп.
Только и не утоп. Дышать не дышит, сердце в грудях не колотится, и холод такой, что прям хоть второй раз помирай. А под ногами дно, и ил ковром персидским, и раковины розовые узорами по нему, и рыбок серебро живое, и солнышка вдосталь, правда, не греет нисколечки, зато радугой разноцветною разливается.
Иначе все, чем сверху, только вот баба та же. Нет, не баба – девка, вроде Шурки соседской, к которой уже трое сватались, такая красавица. И эта не хуже, а то и получше. Вон личико-то круглое, чистое, брови соболиные, точно угольками вычерченные, губы маками цветут, глаза бирюзой отливают.
Про бирюзу Микитка слышал от того же еврея, что Егорку грамоте обучать нанят, и вот сразу понял, какая она есть.
А волос, волос у девки водяной – чисто из лучей солнечных сплетен, и длинен, и тяжел, и удержу нет, до того потрогать охота. Может, разрешит? Ведь не злая же, улыбается, глядит ласково, гребешок к груди прижавши.
– Кто ты, мальчик? – Голос качнул воду, рассыпался золотыми искорками, а те в раковинки упали, прорастут потом жемчужинами.
– Микитка я, – ответил Микитка, шапку стягивая, поклонился степенно и рукой по илу мазанул, видел, как дядька так барина приветствует. Хорошо вышло, рассмеялась девица.
– Как ты сюда попал? Неужели утонул? Но нет... утопленники ко мне не доходят, утопленников ваши забирают... – помянула и нахмурилась, вроде только бровки сошлись над переносицей, а Микитку такой страх обуял – словами и не передать. – С крестом пришел?
– Н-нет. Фимка украла!
– Повезло тебе. Я тех, кто с крестом в царство мое является, не люблю. Многие беды от них...
– Какие? – Микитка осмелел и уже не одним глазком, а обоими на девку пялился. И срамна она – нагишом сидит, только сеткою из волос да зеленой травы водяной прикрытая – и хороша, и томление вызывает, и стыдно, и глаз отвесть никак невозможно.
– Всякие. Что, нравлюсь?
– Нравишься.
– Мал ты еще на женщин смотреть. – Поднялась, гребень отложила, подошла к Микитке и, в глаза заглянув, сказала: – Крещен, но без креста... не утонул, но пришел... редкий дар тебе даден.
Ледяные пальцы ее коснулись подбородка, обожгли до самого Микиткиного нутра, но ни словечка он не вымолвил, закоченел весь под строгим русалочьим взглядом.
– Смотри не прогадай, на пустяки не изведи, зла не твори, добра не забывай. Всего в тебе поровну, что белого, что черного... кривым ли вырастешь, прямым ли... отпускать ли тебя? Иль тут оставить?
– Отпусти, хозяюшка.
– Это верно, хозяйка я Кирмень-озеру, как решу, так и будет. Значит, хочешь наверх, на волю? К тем, кто тебя сюда отправил? Не боишься?
– Не боюсь, – понял вдруг Микитка, что и вправду не боится, потому как силу в себе ощутил такую, которой и названия-то нету. Не страшна ему теперь ни Фимка, ни петух ее лядащий, ни Забава рыжая, ни вообще кто из людей. Слабы они, а Микитка силен.
Вот только водяница посильнее будет, оттого как не людского она племени, а того, о котором ныне только в сказках и услышишь.
Поняла, подслушала мысли, покачала головой и, руку убрав, вздохнула:
– Рано ты силушку-то почуял, как бы не испортила она тебя. Останься тут, разве плохо?
Хорошо. Как в палатах царевны-лебеди, как в горе стеклянной, где змей трехглавый сокровище да чудо-девицу стережет, как нигде на земле хорошо, но Микитке красота эта в тягость. Наверх его тянет, манит, зовет.
– Да, неуютно человеку во владениях моих. Что ж, не знаю, как должно быть бы, но силком тебя держать не стану. Запомни волю мою добрую, а лучше службу сослужи.
– Все, что скажешь! – пообещал Микитка, обрадовавшись.
– Не торопись словами-то кидаться, – укорила водяница, снова на лавочку жемчужную усаживаясь. – За каждое данное после ответ держать придется. Ну да я о многом не попрошу. Найди человека одного, Яковом Брюсом кличут. Вот так выглядит.
Повела рукой, и сгустилась вода, слиплась серебряным зеркалом, а в нем – отражение. И снова дивно – вроде как Микитка и каждую черточку видит, но вроде и неважны они, иное запоминается. Белое вот, самая малость, одуванчиково-желтое, травяно-зеленое, и темно-синее, грозовое...
– Правильно смотришь, – похвалила водяница, зеркало свое убирая. – Тебе теперь только так людей видеть, зато не ошибешься.
И понятно все: синее – значит, смелый человек, холодный разумом и крепкий волей, белизна – это от чистоты помыслов, желтое – значит, гневлив и вспыльчив. Много цветов, много оттенков, и каждый что-то да означает.
– Найдешь и спросишь: крепок ли уговор? И готов ли он вернуть то, что в долг взял?
– И тебе принести?
– Нет. Если готов, пусть сам и приходит, скажи, что не обижу. Ну а заупрямится – передай, что во многих знаниях многие же беды.
– А как я его найду? И если не быстро? Быстро меня из дому не отпустят.
– Найдешь, – пообещала она. – Когда-нибудь да найдешь. Я время иначе слышу, чем вы, люди... он тоже. Все, Никита, ступай теперь.