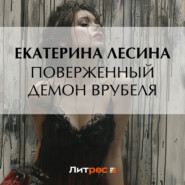По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Черная книга русалки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отошла цыганка от телеги, плат драный на волосы седые накинула да, в Микитку пальцем ткнув, договорила:
– Ты верно угадал, не твоя с нами дорога, но та, которая твоя, лучше б ее и не было. Сильным быть не сдюжишь, во слабости чужую вину возьмешь да крови пролитой попустительствовать станешь. А еще обманом жить, тем, чего и не было никогда. Бывай.
И сгинули.
Весело ехали на ярмарку, тяжко возвращались. Забрался Микитка в самый дальний угол телеги, мешок на солому постелил, свернулся калачиком да думал все про слова цыганки. Наврала ли? Нет, правду говорила, но вот как понять ее?
– Отдать надо было, отдать, – шипела Фимка, наклоняясь к самому мужнину уху. Говорит да на Микитку озирается – слышит ли, разумеет ли. А он и слышит, и разумеет, но виду не кажет, наоборот, глаза закрыл, мешок натянул, будто бы притомился, спит.
– Бесово семя, дикое племя... братец твой со знахаркиной дочкой связался, в дом бесприданную взял, под венец повел, а она, может, и вовсе некрещеная была.
Скрипит телега, грукают копыта по мощеной дороге, орут вороны, льется в уши злой Фимкин шепот:
– Выродила на нашу погибель. Слышал, слышал, что сказано? Погубит он Егороньку, сглазом в могилу сведет!
А Егорка про сказанное и забыл давно, перевесился через борт телеги да собак дразнит, язык показывает, Нюрка же рядышком с сыном сидит, ни жива ни мертва, бела, точно полотно, лицом, а внутри у нее – черным-черно.
– Позарится на дом твой, на хозяйство. Сам-то босота да голь перекатная, Егороньке все отойдет...
– Замолчи, – велел дядька. – Племянник он. Кровь не вода.
Вода в озере плещется, манит зеленью да серебром живым, рыбьим. Стелются по дну ковры мягкие, ловят свет раковины жемчужные, скатывая его камнями драгоценными, и сидит на лавочке резной, узорчатой дева водяная. Чешет косы гребнем резным да, о Микитке вспоминая, печалится.
– Не забыл я! – хочется сказать ему, а не выходит, засели слова внутри занозой, не достать, не избавиться.
– Яков... Яков Брюс, – шевелятся губы водяницы.
– Яков Брюс...
– Что ты там бормочешь, ирод! – раздалось рядом и, в ухо вцепившись, потянуло вверх, выкручивая, выбивая злую слезу. – Крест снял? Безбожник!
Гневается дядька, лицом красен, дышит тяжко, трясется весь, будто с лихоманки, и Микиткино ухо, знай себе, крутит.
– Кто тебя свел? Малашка? А ну говори!
А в руке его – вожжи, ну точно выпорет, вон Фимка уже порты стягивает, скалится зло.
– Я с тебя дурь эту да повыбиваю, – грозится дядька. Микитку толкнул, да не глядя, вожжами. Больно! – Я с тебя сделаю человека... с цыганами спутался! Вор!
Кто вор? Микитка? Да разве ж он когда-нибудь... да чтоб без спросу... да он же как лучше хотел! Чтоб дядька коня плохого не покупал! И Нюрке помог!
– Пусти-и-и! – взвыл Микитка, вывернуться пытаясь, и вожжу перехватил. И тут от обиды да боли нашла на него злость такая, что словами и не рассказать. И силы появились, выдернул вожжу из рук дядькиных да, глазами в глаза уставившись, сказал: – Пусти, а то хуже будет.
Нет, не собирался он зла творить, а дядька сразу поверил, отшатнулся, крестясь, да пробормотал невнятное. И Фимка отскочила, взвизгнув. На том все и закончилось.
На третий день по возвращении попа пригласили, толстого, волохатого да бородатого. Пахло от него квашеной капустой и больным, сопрелым телом. Поп кряхтел, стонал, но молитвы читал красиво, густым, колокольным басом. Хату трижды освятил, а с Микиткою беседу имел, все выспросить пытался, когда это Микитка от Бога отречься решил. Пеклом пугал, чертями рогатыми и вилами острыми, муками вечными, адовыми, про небесную благодать сказывал, про смирение, с которым каждому человеку долю свою принимать надобно. Микитка слушал, кивал и молитвы все, каковые батюшка поставил прочесть, прочел перед иконою, и по нескольку раз. Только вот... прежде-то помолишься и легчает внутри, а теперь идут слова, летят к иконе, а оттуда на тебя не лик Богородицы, а будто бы морда чья-то, кривая, косо намалеванная и светом лучины скаженная. Страшная – как глянуть.
Нет, не было с тех молитв Микитке спасения, расстройство одно. А еще в доме к нему переменились, работы не дают, хоть кормить – кормят, даже лучше прежнего, а держатся все одно в сторонке. Только Малашка прежняя и осталась – улыбчивая, добрая, ласковая.
Ну и Егорка. Ему сколько мамка ни сказывала, сколько страхами разными ни пугала – он только больше к Микитке тянется. Сначала про силу выспрашивал, потом про деву озерную, где живет, да какова из себя, да что за узоры у нее на гребне, и нет ли перстенька волшебного, с которым и звериный, и птичий язык разуметь будешь. Микитка сказывал, сначала сухо, нехотя, а потом и сам разохотился и даже приврал немного...
Так все и шло до самой Егоркиной болезни.
Антон Антоныч Шукшин с тоской глядел в окно, думая о том, что отпуск, который по плану должен был начаться с понедельника, теперь откладывается на неопределенный срок: кто его в отпуск пустит с нераскрытым делом-то? А значит, Ленка, настроившаяся было махнуть на юга, разобидится, а с нею и Евдокия Павловна, дражайшая теща, которая, правда, на юга не собиралась, но серьезно рассчитывала на Антонову помощь в ремонте квартиры...
И будут слезы, ссоры, скандалы, уход из дому с демонстративным хлопаньем дверью, звонки от «мамы», сдавленные всхлипы и чувство вины, привычное и постепенно перерастающее в злость. А все из-за чего? Из-за каких-то алкоголиков и маргиналов, не имевших совести погодить с убийством хотя б на недельку-другую...
Нет, убиенному Антон Антоныч сочувствовал и вдове его, женщине серьезной, с характером, заявившейся прям поутру, соболезнования принес, но ведь этим-то не завершится, ей-то не соболезнования, а ответ нужен. И суд, и приговор, который, конечно, супруга не вернет, но позволит ощутить, что в мире таки есть справедливость.
С ответом у Антона Антоныча было худо. Если по первости он это дело всерьез не воспринял, списав все на бытовуху да разборки среди местных пьяниц, то впоследствии от версии этой отказался. Слишком уж странно все было.
Взять хотя бы личность потерпевшего. Григорий Иванович Кушаков, тридцати восьми лет от роду, женат, отец троих детей, старшему из которых четырнадцать, младшему – четыре. Несудим. Вот и все. Ну еще по словам жены да соседей выходило, что человеком Григорий Иванович был самым обыкновенным, добродушным, не скандальным, трусоватым, в меру пьющим, в общем, ничем-то особым не примечательным. Кому понадобилось такого убивать? Ладно бы и вправду по пьяни, когда голова не соображает, кровь хмелем горит, а руки сами за нож хватаются, так нет же.
Картина с места преступления вырисовывалась престранная. Выходило, что весьма долгое время убиенный провел в зарослях малинника, где обнаружили и следы на покрывале, и примятые, поломанные кусты, и нитки, с одежды выдранные, и окурки. Но тут понятно – с женою поругался, вот и отсиживался. Только зачем он после этого к озеру пошел? Заблудился в тумане? Так местный же, должен был спинным мозгом чуять, в какую сторону дом. Да и не просто до озера Гришка Кушаков дошел – купаться полез, вон, полные сапоги воды, с тиною, ряскою да с толстым, забившимся за голенище листом кувшинки, а они от берега метрах в пяти начинаются.
Выходило, что покойный имел явное намерение свести счеты с жизнью, а потом передумал, развернулся и пошел, но не домой, а к дачам, где его и настиг убийца. А Антону Антонычу думай теперь, то ли обознался нападающий, ждал не Гришку, а еще кого-то, то ли наоборот, убрал кого надо, за жертвою следил, а потому искать надобно среди знакомых Кушакова.
И орудие-то какое выбрал: не нож, не веревку, не камень даже, а поленце березовое, длинненькое, аккурат такое, чтоб за дубину сойти. Конечно, поленцу Антон Антоныч даже обрадовался, велел подворья прошерстить, поглядеть, у кого сходные валяются, да без толку оказалось – на окраине Погарья не так давно три березы бурей повалило, вот их местные мужики на дрова и попилили, и теперь березовых полешек в каждом втором дворе полно.
В общем, грустным виделось Антону Антонычу и дело это, и собственное ближайшее будущее, и вообще жизнь. Оттого и сидел он, в окно глядя, пытаясь извлечь из головы какую-никакую здравую мыслишку, перебирал бумаги да шепотом готовил оправдательную речь, дабы нынче же вечером произнести оную перед супругой.
Скрипнула дверь, приотворяясь, легонько постучали по косяку, и в щель бочком просунулась бабка.
– А я от к вам, по делу, – сказала она, подходя к столу. – Можно?
– Можно, – разрешил Шукшин, разглядывая гостью. Была она в красном шифоновом платье с крупными черными пуговицами да рюшами по воротнику, в растоптанных красных ботинках да красном же платке, лихо повязанном на манер банданы. На шее висели бусы, на груди – орден Трудового Красного Знамени.
– Анна Ефимовна, – представилась бабка, усаживаясь на стул. – Я из Погарья, по делу, про убийство которое. Тут, стало быть, такое, что я-то знаю, кто его, но вы ж не поверите.
Шукшин подобрался: неужели повезло? Да быть такого не может, не тот он человек, которого везучим называют, скорее уж наоборот. Но бабка имела вид человека серьезного. А ну как и вправду знает что-то?
– Я комсомолка. Коммунистка. И грамоты имею. И награды, – пощупала орден, проверяя, на месте ли. – И не в маразме еще.
Начало не вдохновляло. С чего это она так?
– Это к тому, чтоб не говорили, будто Анна Ефимовна на старости лет совсем разум потеряла. Не волнуйтесь, не потеряла, я еще поразумней некоторых буду. Но только дело такое... в общем, Гришку не человек убил.
Она перешла на громкий шепот и глаза выпучила.
– А кто? – также шепотом спросил Антон Антоныч.
– Водяница.
– Кто?
– Ну водяница, русалка, стало быть, – раздраженно повторила бабка. – Опять зашевелилась, покою ей нету. Людей мутит, к себе манит, бывает, кого и отпустит, если попросить и при настроении, а так-то, если попался, пиши пропало.
– Погодите. – Шукшин жестом оборвал поток речи. – То есть вы хотите сказать, что Кушакова убила русалка?
– Ты верно угадал, не твоя с нами дорога, но та, которая твоя, лучше б ее и не было. Сильным быть не сдюжишь, во слабости чужую вину возьмешь да крови пролитой попустительствовать станешь. А еще обманом жить, тем, чего и не было никогда. Бывай.
И сгинули.
Весело ехали на ярмарку, тяжко возвращались. Забрался Микитка в самый дальний угол телеги, мешок на солому постелил, свернулся калачиком да думал все про слова цыганки. Наврала ли? Нет, правду говорила, но вот как понять ее?
– Отдать надо было, отдать, – шипела Фимка, наклоняясь к самому мужнину уху. Говорит да на Микитку озирается – слышит ли, разумеет ли. А он и слышит, и разумеет, но виду не кажет, наоборот, глаза закрыл, мешок натянул, будто бы притомился, спит.
– Бесово семя, дикое племя... братец твой со знахаркиной дочкой связался, в дом бесприданную взял, под венец повел, а она, может, и вовсе некрещеная была.
Скрипит телега, грукают копыта по мощеной дороге, орут вороны, льется в уши злой Фимкин шепот:
– Выродила на нашу погибель. Слышал, слышал, что сказано? Погубит он Егороньку, сглазом в могилу сведет!
А Егорка про сказанное и забыл давно, перевесился через борт телеги да собак дразнит, язык показывает, Нюрка же рядышком с сыном сидит, ни жива ни мертва, бела, точно полотно, лицом, а внутри у нее – черным-черно.
– Позарится на дом твой, на хозяйство. Сам-то босота да голь перекатная, Егороньке все отойдет...
– Замолчи, – велел дядька. – Племянник он. Кровь не вода.
Вода в озере плещется, манит зеленью да серебром живым, рыбьим. Стелются по дну ковры мягкие, ловят свет раковины жемчужные, скатывая его камнями драгоценными, и сидит на лавочке резной, узорчатой дева водяная. Чешет косы гребнем резным да, о Микитке вспоминая, печалится.
– Не забыл я! – хочется сказать ему, а не выходит, засели слова внутри занозой, не достать, не избавиться.
– Яков... Яков Брюс, – шевелятся губы водяницы.
– Яков Брюс...
– Что ты там бормочешь, ирод! – раздалось рядом и, в ухо вцепившись, потянуло вверх, выкручивая, выбивая злую слезу. – Крест снял? Безбожник!
Гневается дядька, лицом красен, дышит тяжко, трясется весь, будто с лихоманки, и Микиткино ухо, знай себе, крутит.
– Кто тебя свел? Малашка? А ну говори!
А в руке его – вожжи, ну точно выпорет, вон Фимка уже порты стягивает, скалится зло.
– Я с тебя дурь эту да повыбиваю, – грозится дядька. Микитку толкнул, да не глядя, вожжами. Больно! – Я с тебя сделаю человека... с цыганами спутался! Вор!
Кто вор? Микитка? Да разве ж он когда-нибудь... да чтоб без спросу... да он же как лучше хотел! Чтоб дядька коня плохого не покупал! И Нюрке помог!
– Пусти-и-и! – взвыл Микитка, вывернуться пытаясь, и вожжу перехватил. И тут от обиды да боли нашла на него злость такая, что словами и не рассказать. И силы появились, выдернул вожжу из рук дядькиных да, глазами в глаза уставившись, сказал: – Пусти, а то хуже будет.
Нет, не собирался он зла творить, а дядька сразу поверил, отшатнулся, крестясь, да пробормотал невнятное. И Фимка отскочила, взвизгнув. На том все и закончилось.
На третий день по возвращении попа пригласили, толстого, волохатого да бородатого. Пахло от него квашеной капустой и больным, сопрелым телом. Поп кряхтел, стонал, но молитвы читал красиво, густым, колокольным басом. Хату трижды освятил, а с Микиткою беседу имел, все выспросить пытался, когда это Микитка от Бога отречься решил. Пеклом пугал, чертями рогатыми и вилами острыми, муками вечными, адовыми, про небесную благодать сказывал, про смирение, с которым каждому человеку долю свою принимать надобно. Микитка слушал, кивал и молитвы все, каковые батюшка поставил прочесть, прочел перед иконою, и по нескольку раз. Только вот... прежде-то помолишься и легчает внутри, а теперь идут слова, летят к иконе, а оттуда на тебя не лик Богородицы, а будто бы морда чья-то, кривая, косо намалеванная и светом лучины скаженная. Страшная – как глянуть.
Нет, не было с тех молитв Микитке спасения, расстройство одно. А еще в доме к нему переменились, работы не дают, хоть кормить – кормят, даже лучше прежнего, а держатся все одно в сторонке. Только Малашка прежняя и осталась – улыбчивая, добрая, ласковая.
Ну и Егорка. Ему сколько мамка ни сказывала, сколько страхами разными ни пугала – он только больше к Микитке тянется. Сначала про силу выспрашивал, потом про деву озерную, где живет, да какова из себя, да что за узоры у нее на гребне, и нет ли перстенька волшебного, с которым и звериный, и птичий язык разуметь будешь. Микитка сказывал, сначала сухо, нехотя, а потом и сам разохотился и даже приврал немного...
Так все и шло до самой Егоркиной болезни.
Антон Антоныч Шукшин с тоской глядел в окно, думая о том, что отпуск, который по плану должен был начаться с понедельника, теперь откладывается на неопределенный срок: кто его в отпуск пустит с нераскрытым делом-то? А значит, Ленка, настроившаяся было махнуть на юга, разобидится, а с нею и Евдокия Павловна, дражайшая теща, которая, правда, на юга не собиралась, но серьезно рассчитывала на Антонову помощь в ремонте квартиры...
И будут слезы, ссоры, скандалы, уход из дому с демонстративным хлопаньем дверью, звонки от «мамы», сдавленные всхлипы и чувство вины, привычное и постепенно перерастающее в злость. А все из-за чего? Из-за каких-то алкоголиков и маргиналов, не имевших совести погодить с убийством хотя б на недельку-другую...
Нет, убиенному Антон Антоныч сочувствовал и вдове его, женщине серьезной, с характером, заявившейся прям поутру, соболезнования принес, но ведь этим-то не завершится, ей-то не соболезнования, а ответ нужен. И суд, и приговор, который, конечно, супруга не вернет, но позволит ощутить, что в мире таки есть справедливость.
С ответом у Антона Антоныча было худо. Если по первости он это дело всерьез не воспринял, списав все на бытовуху да разборки среди местных пьяниц, то впоследствии от версии этой отказался. Слишком уж странно все было.
Взять хотя бы личность потерпевшего. Григорий Иванович Кушаков, тридцати восьми лет от роду, женат, отец троих детей, старшему из которых четырнадцать, младшему – четыре. Несудим. Вот и все. Ну еще по словам жены да соседей выходило, что человеком Григорий Иванович был самым обыкновенным, добродушным, не скандальным, трусоватым, в меру пьющим, в общем, ничем-то особым не примечательным. Кому понадобилось такого убивать? Ладно бы и вправду по пьяни, когда голова не соображает, кровь хмелем горит, а руки сами за нож хватаются, так нет же.
Картина с места преступления вырисовывалась престранная. Выходило, что весьма долгое время убиенный провел в зарослях малинника, где обнаружили и следы на покрывале, и примятые, поломанные кусты, и нитки, с одежды выдранные, и окурки. Но тут понятно – с женою поругался, вот и отсиживался. Только зачем он после этого к озеру пошел? Заблудился в тумане? Так местный же, должен был спинным мозгом чуять, в какую сторону дом. Да и не просто до озера Гришка Кушаков дошел – купаться полез, вон, полные сапоги воды, с тиною, ряскою да с толстым, забившимся за голенище листом кувшинки, а они от берега метрах в пяти начинаются.
Выходило, что покойный имел явное намерение свести счеты с жизнью, а потом передумал, развернулся и пошел, но не домой, а к дачам, где его и настиг убийца. А Антону Антонычу думай теперь, то ли обознался нападающий, ждал не Гришку, а еще кого-то, то ли наоборот, убрал кого надо, за жертвою следил, а потому искать надобно среди знакомых Кушакова.
И орудие-то какое выбрал: не нож, не веревку, не камень даже, а поленце березовое, длинненькое, аккурат такое, чтоб за дубину сойти. Конечно, поленцу Антон Антоныч даже обрадовался, велел подворья прошерстить, поглядеть, у кого сходные валяются, да без толку оказалось – на окраине Погарья не так давно три березы бурей повалило, вот их местные мужики на дрова и попилили, и теперь березовых полешек в каждом втором дворе полно.
В общем, грустным виделось Антону Антонычу и дело это, и собственное ближайшее будущее, и вообще жизнь. Оттого и сидел он, в окно глядя, пытаясь извлечь из головы какую-никакую здравую мыслишку, перебирал бумаги да шепотом готовил оправдательную речь, дабы нынче же вечером произнести оную перед супругой.
Скрипнула дверь, приотворяясь, легонько постучали по косяку, и в щель бочком просунулась бабка.
– А я от к вам, по делу, – сказала она, подходя к столу. – Можно?
– Можно, – разрешил Шукшин, разглядывая гостью. Была она в красном шифоновом платье с крупными черными пуговицами да рюшами по воротнику, в растоптанных красных ботинках да красном же платке, лихо повязанном на манер банданы. На шее висели бусы, на груди – орден Трудового Красного Знамени.
– Анна Ефимовна, – представилась бабка, усаживаясь на стул. – Я из Погарья, по делу, про убийство которое. Тут, стало быть, такое, что я-то знаю, кто его, но вы ж не поверите.
Шукшин подобрался: неужели повезло? Да быть такого не может, не тот он человек, которого везучим называют, скорее уж наоборот. Но бабка имела вид человека серьезного. А ну как и вправду знает что-то?
– Я комсомолка. Коммунистка. И грамоты имею. И награды, – пощупала орден, проверяя, на месте ли. – И не в маразме еще.
Начало не вдохновляло. С чего это она так?
– Это к тому, чтоб не говорили, будто Анна Ефимовна на старости лет совсем разум потеряла. Не волнуйтесь, не потеряла, я еще поразумней некоторых буду. Но только дело такое... в общем, Гришку не человек убил.
Она перешла на громкий шепот и глаза выпучила.
– А кто? – также шепотом спросил Антон Антоныч.
– Водяница.
– Кто?
– Ну водяница, русалка, стало быть, – раздраженно повторила бабка. – Опять зашевелилась, покою ей нету. Людей мутит, к себе манит, бывает, кого и отпустит, если попросить и при настроении, а так-то, если попался, пиши пропало.
– Погодите. – Шукшин жестом оборвал поток речи. – То есть вы хотите сказать, что Кушакова убила русалка?