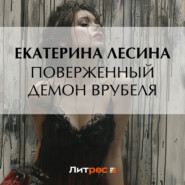По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Слезы Магдалины
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И что мне теперь делать? – спросил Мэтью, не без труда опустившись на валун. Ныли, предвещая дождь, переломанные кости, чесались шрамы, свербело в пробитом боку. Но даже не тело переменилось – душа. Вдруг словно вдохнула свежего воздуха, потянулась и вылупилась из кокона запоздалой бабочкой. Этой новой душе было бы томительно возвращаться к прежнему ремеслу, да и не выдержала бы она, нежнокрылая, подобной работы.
– Чего делать? – повторил вопрос Мэтью.
Заливаясь румянцем сумерек, небо подмигнуло в ответ:
– Жить, Мэтью, просто жить.
Жизнь под дланью Сатаны оказалась не такой и ужасной. Мэтью не помнил, когда случилось то, что в общем рано или поздно происходит, когда мужчина и женщина оказываются под одной крышей. Случилось и продолжилось, протянувшись нитью тепла в слякотной осени, согрев зиму открытым пламенем душ, улыбнувшись весне новой жизнью. А к лету на закате – редкие дни жары и утренних туманов – Мэтью стал отцом.
Это было чудо. И разве дьяволу под силу чудеса?
Новорожденная дочь, синеглазая Абигайль, окончательно примирила его и с Богом, и с миром, пробудив прежнюю веру, не дала пробудиться страхам. Она... она была прекрасна, как сама жизнь.
Наденька приехала и уехала. Она ничего не изменила в нынешней Владовой жизни. Для очистки совести он сделал вялую попытку подумать о письмах, которые кто-то кому-то зачем-то пишет, но голова по-прежнему отказывалась работать.
Поэтому Влад предпочел наблюдать, благо рядом нашелся объект вполне себе забавный. Девушка-Пьеро из дома напротив. Дома с большими окнами, через которые просматривался почти весь дом, особенно если взять бинокль.
Влад брал. Смотрел. Ни о чем не думал, но выводы появлялись сами по себе. Его соседка кого-то боялась. Она редко выходила во двор, а когда все-таки появлялась, то вела себя нервно, то и дело замирала, оглядывалась, высматривая что-то или кого-то. А потом снова скрывалась в доме, садилась у окна – сквозь стекло проступал размытый силуэт – и пялилась на дорогу.
От мужа прячется? От любовника? А широкоплечий, неповоротливый, кто ей? Друг? Брат? Дальний родич? Он появляется под утро, перекрывая машиной ворота, долго возится в багажнике и, вооружившись тюками пакетов, медленно бредет по тропинке. И спустя десять-пятнадцать минут снова садится в машину. Уезжает.
На этот раз, правда, было иначе. Он вышел из дому и бодрым шагом направился к Владу. На миг стало стыдно: поймали за подглядыванием. Потом смешно.
– Здрасьте. Я Миша.
Он вошел без стука, ссутулился, словно стесняясь размаха плеч, повел головой на короткой шее, оглядываясь. Хмыкнул, увидев иконы.
– Влад, – представился Влад.
– А я тебя помню.
Откуда? Ну конечно, это ж Мишаня, старый приятель, верный враг. Руки-грабли, нос картошкой, брови, упрямо сдвинутые над переносицей, и подбородок не с ямкой – с натуральной вмятиной.
– И я тебя. Помню.
Еще бы не помнить. От него остались три шрама поперек спины, белые нитки, старая боль. Со всей дури доской тогда саданул, а на ней гвозди. Зацепил, разодрал до кровяки и сам же испугался. Домой вместе шли и вместе получали. И снова друг друга за то ненавидели.
– Чего тут делаешь?
– Живу.
Глупый разговор, как и сама эта встреча. И Миша тоже понимает всю глупость, но упрямится – ему нужно выполнить долг перед той девицей с маской вечной тоски вместо лица.
– Да так... Приехал вот. Пожить на природе.
– А... – Миша дернул плечом. – Тогда понятно. А я сосед.
– Будем знакомы. Снова.
Руку он сдавил крепко, не то проверяя, не то демонстрируя силу. Влад послушно охнул и, поддерживая игру, сказал:
– Силен.
Говорить стало не о чем. И Миша, некоторое время потоптавшись на пороге, вышел. И только тогда Влад вспомнил, что собирался спросить, как ее зовут, ту, которая прячется.
Ну не спросил, и ладно.
– Мишка объявивсо? – бабка Гэля впервые решилась задать вопрос. До того ее с Владом отношения сводились к механическому обмену. Он протягивал купюру, она, засунув ее за отворот платка, совала мокрую банку с молоком.
Вот странность, на столе, на скатерти отпечатков влажных не остается, но банка все равно мокрая.
Баба Гэля, разминая купюру пальцами, продолжила беседу:
– Федута бачило, что объявивсо. Он забору сладить обещавсо. И не сладил.
В крохотных глазках не упрек – любопытство. И Влад зачем-то спешит оправдать соседа-незнакомца:
– Он только наездами. Поселил кого-то. Женщина. Молодая. Сестра?
Баба Гэля скрутила денюжку валиком и сунула за отворот платка.
– Неа. Мишко одиный осталсо. Вчетверо их было, однако ж от... ох беда, беда, – она затрясла головой, как китайский болванчик. – Ох горюшко-то какое! Да ты садисо, садисо. Чаю будешь? С творожком? Свой творожок, сама ставила, сама сцежвала. И сыр от. Сыр сухой, мне никак, а тебе ладно будет.
Пора было бы попрощаться и уйти, на кой ему деревенские сплетни не первой свежести? Со старухой-то понятно, ей в охотку поговорить, закисла небось в одиночестве. Он же, наоборот, одиночества искал.
– Вчетверо. Мишко молодший, а с ним Генусь, Данутка и Василиска. Хорошие детки, справные, – баба Гэля принесла и сыр, и творог, поставила сахар в банке, опять же мокрой. – Ты ешь, ешь. Худой. И Манько, матко их, тоже худобая была. Хворая потому что. И городская.
Прозвучало серьезным упреком.
– Витько без благословенья обженился. Уехал в город и привез, дескать, женка моя. Ну Глашка, Витькина мамаша, приняла, без радости, у нее-то свои намеренья имелисо, но приняла. Живите, раз обженилисо. А потом и детки пошли... кто ж знал, кто ж ведал. Горе-горюшко.
Причитала она профессионально, с душой и знанием дела, даже слезу выдавила и не вытирала, пока не убедилась, что Влад заметил.
– И жили. Не хорошо, не плохо. Как все. А потом Витько взял и к другой переметнулся. Поначатку бегал втишку, огородами, а опосля заявил. Развод, мол. И любовь. Ну так чего? Всякое ж бывает. Манько вещищки собрала и выставила. Катися. А сама взяла да в ночку хату подпалило. Ох беда-беда, горюшко...
Горе, беда из тех, которые настоящие, которые каждый день, которые вроде бы и рядом, но достаточно далеко, чтобы жизнь не омрачать. Рядом с таким собственные проблемы меркнут. В них, в проблемах, и вовсе смысла немного.
– Один током Мишко и выжимши. Вот оно как бывает. А баба тая, разлучницо, к которой Ванько от семьи сбег, тым же годом удавилася.
Страшно. И странно: почему Влад этого не помнит?
– Че я? А че я? – белобрысый пацаненок набычился. – Я ж ниче. Это она сама.
Он сплюнул под ноги и покосился на Димыча: верит? Димыч пока присматривался и думал над услышанным.
Итак, за месяц до самоубийства у железной Серафимы Ильиничны не выдержали нервы. На уроке русской литературы с ней вдруг случился нервный припадок, в результате которого пострадал некий Саша Демочкин, ученик восьмого класса. По словам заведующей, парень не беспроблемный, но и не самый плохой. Обыкновенный.
Димыч и сам теперь видел, что обыкновенный: тощий, угловатый, рожа в прыщах, ноги в тяжелых ботинках. В одном ухе три кольца, во втором – бубенчик со стразом. И челка мелированная глаза закрывает.
– Чего делать? – повторил вопрос Мэтью.
Заливаясь румянцем сумерек, небо подмигнуло в ответ:
– Жить, Мэтью, просто жить.
Жизнь под дланью Сатаны оказалась не такой и ужасной. Мэтью не помнил, когда случилось то, что в общем рано или поздно происходит, когда мужчина и женщина оказываются под одной крышей. Случилось и продолжилось, протянувшись нитью тепла в слякотной осени, согрев зиму открытым пламенем душ, улыбнувшись весне новой жизнью. А к лету на закате – редкие дни жары и утренних туманов – Мэтью стал отцом.
Это было чудо. И разве дьяволу под силу чудеса?
Новорожденная дочь, синеглазая Абигайль, окончательно примирила его и с Богом, и с миром, пробудив прежнюю веру, не дала пробудиться страхам. Она... она была прекрасна, как сама жизнь.
Наденька приехала и уехала. Она ничего не изменила в нынешней Владовой жизни. Для очистки совести он сделал вялую попытку подумать о письмах, которые кто-то кому-то зачем-то пишет, но голова по-прежнему отказывалась работать.
Поэтому Влад предпочел наблюдать, благо рядом нашелся объект вполне себе забавный. Девушка-Пьеро из дома напротив. Дома с большими окнами, через которые просматривался почти весь дом, особенно если взять бинокль.
Влад брал. Смотрел. Ни о чем не думал, но выводы появлялись сами по себе. Его соседка кого-то боялась. Она редко выходила во двор, а когда все-таки появлялась, то вела себя нервно, то и дело замирала, оглядывалась, высматривая что-то или кого-то. А потом снова скрывалась в доме, садилась у окна – сквозь стекло проступал размытый силуэт – и пялилась на дорогу.
От мужа прячется? От любовника? А широкоплечий, неповоротливый, кто ей? Друг? Брат? Дальний родич? Он появляется под утро, перекрывая машиной ворота, долго возится в багажнике и, вооружившись тюками пакетов, медленно бредет по тропинке. И спустя десять-пятнадцать минут снова садится в машину. Уезжает.
На этот раз, правда, было иначе. Он вышел из дому и бодрым шагом направился к Владу. На миг стало стыдно: поймали за подглядыванием. Потом смешно.
– Здрасьте. Я Миша.
Он вошел без стука, ссутулился, словно стесняясь размаха плеч, повел головой на короткой шее, оглядываясь. Хмыкнул, увидев иконы.
– Влад, – представился Влад.
– А я тебя помню.
Откуда? Ну конечно, это ж Мишаня, старый приятель, верный враг. Руки-грабли, нос картошкой, брови, упрямо сдвинутые над переносицей, и подбородок не с ямкой – с натуральной вмятиной.
– И я тебя. Помню.
Еще бы не помнить. От него остались три шрама поперек спины, белые нитки, старая боль. Со всей дури доской тогда саданул, а на ней гвозди. Зацепил, разодрал до кровяки и сам же испугался. Домой вместе шли и вместе получали. И снова друг друга за то ненавидели.
– Чего тут делаешь?
– Живу.
Глупый разговор, как и сама эта встреча. И Миша тоже понимает всю глупость, но упрямится – ему нужно выполнить долг перед той девицей с маской вечной тоски вместо лица.
– Да так... Приехал вот. Пожить на природе.
– А... – Миша дернул плечом. – Тогда понятно. А я сосед.
– Будем знакомы. Снова.
Руку он сдавил крепко, не то проверяя, не то демонстрируя силу. Влад послушно охнул и, поддерживая игру, сказал:
– Силен.
Говорить стало не о чем. И Миша, некоторое время потоптавшись на пороге, вышел. И только тогда Влад вспомнил, что собирался спросить, как ее зовут, ту, которая прячется.
Ну не спросил, и ладно.
– Мишка объявивсо? – бабка Гэля впервые решилась задать вопрос. До того ее с Владом отношения сводились к механическому обмену. Он протягивал купюру, она, засунув ее за отворот платка, совала мокрую банку с молоком.
Вот странность, на столе, на скатерти отпечатков влажных не остается, но банка все равно мокрая.
Баба Гэля, разминая купюру пальцами, продолжила беседу:
– Федута бачило, что объявивсо. Он забору сладить обещавсо. И не сладил.
В крохотных глазках не упрек – любопытство. И Влад зачем-то спешит оправдать соседа-незнакомца:
– Он только наездами. Поселил кого-то. Женщина. Молодая. Сестра?
Баба Гэля скрутила денюжку валиком и сунула за отворот платка.
– Неа. Мишко одиный осталсо. Вчетверо их было, однако ж от... ох беда, беда, – она затрясла головой, как китайский болванчик. – Ох горюшко-то какое! Да ты садисо, садисо. Чаю будешь? С творожком? Свой творожок, сама ставила, сама сцежвала. И сыр от. Сыр сухой, мне никак, а тебе ладно будет.
Пора было бы попрощаться и уйти, на кой ему деревенские сплетни не первой свежести? Со старухой-то понятно, ей в охотку поговорить, закисла небось в одиночестве. Он же, наоборот, одиночества искал.
– Вчетверо. Мишко молодший, а с ним Генусь, Данутка и Василиска. Хорошие детки, справные, – баба Гэля принесла и сыр, и творог, поставила сахар в банке, опять же мокрой. – Ты ешь, ешь. Худой. И Манько, матко их, тоже худобая была. Хворая потому что. И городская.
Прозвучало серьезным упреком.
– Витько без благословенья обженился. Уехал в город и привез, дескать, женка моя. Ну Глашка, Витькина мамаша, приняла, без радости, у нее-то свои намеренья имелисо, но приняла. Живите, раз обженилисо. А потом и детки пошли... кто ж знал, кто ж ведал. Горе-горюшко.
Причитала она профессионально, с душой и знанием дела, даже слезу выдавила и не вытирала, пока не убедилась, что Влад заметил.
– И жили. Не хорошо, не плохо. Как все. А потом Витько взял и к другой переметнулся. Поначатку бегал втишку, огородами, а опосля заявил. Развод, мол. И любовь. Ну так чего? Всякое ж бывает. Манько вещищки собрала и выставила. Катися. А сама взяла да в ночку хату подпалило. Ох беда-беда, горюшко...
Горе, беда из тех, которые настоящие, которые каждый день, которые вроде бы и рядом, но достаточно далеко, чтобы жизнь не омрачать. Рядом с таким собственные проблемы меркнут. В них, в проблемах, и вовсе смысла немного.
– Один током Мишко и выжимши. Вот оно как бывает. А баба тая, разлучницо, к которой Ванько от семьи сбег, тым же годом удавилася.
Страшно. И странно: почему Влад этого не помнит?
– Че я? А че я? – белобрысый пацаненок набычился. – Я ж ниче. Это она сама.
Он сплюнул под ноги и покосился на Димыча: верит? Димыч пока присматривался и думал над услышанным.
Итак, за месяц до самоубийства у железной Серафимы Ильиничны не выдержали нервы. На уроке русской литературы с ней вдруг случился нервный припадок, в результате которого пострадал некий Саша Демочкин, ученик восьмого класса. По словам заведующей, парень не беспроблемный, но и не самый плохой. Обыкновенный.
Димыч и сам теперь видел, что обыкновенный: тощий, угловатый, рожа в прыщах, ноги в тяжелых ботинках. В одном ухе три кольца, во втором – бубенчик со стразом. И челка мелированная глаза закрывает.