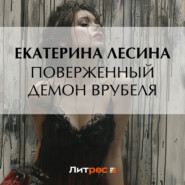По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хризантема императрицы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И как вы планируете с ней дружить? Она же... примитивна.
– По-моему, ты преувеличиваешь, – заметила Женечка, мельком глянув на часы. – Извините, я скоро.
А она куда? Она вроде не курит, а туалет занят. Но ни Леля, ни Шурик, сразу вспомнивший о говядине, ни старуха на Женечкину эскападу внимания не обратили.
– Но все же девица чересчур... прямолинейна.
– И это хорошо. Это просто замечательно, правда, Геночка?
Не Геночка он, хотя ей не докажешь, ей все равно.
– И вечер просто чудесный. Спасибо, Лелечка, такой подарок... теперь мне будет с кем делиться воспоминаниями. Для начала воспоминаниями, – подчеркнула старуха, улыбаясь хитро и счастливо.
* * *
Если кого-то и удивила эта скоропалительная женитьба, казавшаяся да и бывшая жалкой попыткой вернуть утраченное былое равновесие, то виду не подавали – жалели. И ее, вдову, молодую да красивую, и его, пусть не молодого, но при троих детях, которым – каждый знает – без материной опеки никак.
– Ну-ну, – только и сказала Клавка рыжему кошаку, последнему из шести, прочие уже с месяц как по новым хозяевам жили. Кошак не ответил, зыркнул зеленым глазом да когти в обивку вонзил, чуял, верно, что и ему недолго в этой квартире осталось.
– А соседей могли б и позвать, – пожаловалась Манька супругу, и тот согласился. Васина ничего не сказала, просто тихо напилась.
Могли бы, но не позвали: никого не хотел видеть Вацлав, которому эта свадьба, совсем на свадьбу не похожая, казалась предательством. Не желала застолья и Федина, по робкой просьбе супруга оставившая прежнюю фамилию. А дети к свершившемуся отнеслись и вовсе равнодушно: Милочка был слишком мал, Дарья – замкнута, а Сергей и вовсе непонятен: вежливый, обходительный, но...
Нет, не лежала у Фединой к старшим душа, хоть и уговаривала себя, приучала, улыбалась старательно, завтраки готовила, банты завязывала, сказки рассказывала, да сама понимала – ложь это.
Не такой она себе эту жизнь представляла. Впрочем, другой не было.
Постепенно Федина привыкала и к Дарьиным истерикам, поводом к которым мог послужить любой пустяк, и к молчаливому, но постоянному упрямству Сержа, все и вся делавшего наперекор ее слову, и к равнодушию Вацлава. Эти трое стали неважны – чужие, случайные люди, существование рядом с которыми – необходимое условие, чтобы быть с Милочкой.
Милослав, Славик, Слава, Мила, Милочка, Милюша... Федина могла придумать тысячу и одну вариацию дорогого имени и украсить каждую сотней оттенков нежности.
По утрам он, растрепанный и сонный, хмурится, злится, трет глазенки кулачками и капризничает. А днем – игривый, любопытный, все-то ему надо потрогать, до всего дотянуться... К вечеру устает, успокаивается и уже можно на ручки взять, обнять, погладить, утереть чумазую мордашку, уговорить отправиться в кровать и, открыв толстенную книгу сказок, читать. Милочка заснет почти сразу, сунув ладошки под щеку, улыбаясь ей и радуясь тому, что она, Федина, рядом. Конечно, рядом: будь ее воля, она и ночевала бы в детской. Но Вацлав против.
Вацлав жесток. Он не понимает, что Милочка еще маленький, и ему забота нужна... Вацлав хочет от сына самостоятельности, ставит в пример Сержа, но тот в отца пошел – вежливая ледышка, а Милочка Анжелочкин, пусть и не ею рожденный, но ведь родной же.
Прошло пару лет. Как-то вдруг разродилась сыном Клавка. А чуть позже обзавелась дочкой Манька, не родной – приемной, светленькой да кудрявенькой, один в один похожей на Дарью. Впрочем, та подросла, подтянулась, очень быстро потеряв уютную детскую пухлость, которая сменилась угловатостью и худобой.
– В мать будет, – сказала как-то Клавка, с которой теперь пришлось встречаться часто: Клавка выходила с коляской, а Федина – с Милочкой. – Ну вылитая Элька. На лицо поглянь. А повадки? Никто ж не учил, но материны... а Сережка-то отцовой породы, головастенький.
Федина соглашалась, Федина прикусывала язык, с которого готово было сорваться едкое замечание, что эти-то хоть понятно какой породы, а у Клавки в коляске приблудыш, не пойми от кого прижитый, небось, ни в мать, ни в отца – ясно, что нагулянный.
– Ну а сама когда собираешься? Не старая же, – Клавка все не унималась. Говорливая она, и прежде-то не смолкала, а теперь и вовсе разошлась. – Или твой не хочет? Оно понятно, конечно, своих-то трое, куда четвертого, хотя, конечно, мог бы, чай копейки не считает...
Не считает, это верно. До чего-чего, а до денег Вацлав был нежадный, только вот радости от тех денег ровным счетом никакой.
Снова хотелось иного.
Не равнодушия. Не вежливости и уважения – любви. И снова почти до слез в подушку, до закушенной губы, до разбитой в порыве гнева чашки, до сдерживаемого из последних сил крика, до ненависти к той, которая эту любовь украла.
Почему она, даже мертвая, получала то, что должна была отдать живым?
– А Манька-то говорит, что ты хорошо устроилась, ну а я так не завидую, – Клавка достала из сумки бутерброд с сыром, завернутый в газету. Бумага пестрела жирными пятнами, а с одной стороны к ней прилип комочек белых ниток и длинный темный волос. Федина поморщилась, Клавка же на подобные мелочи не обратила внимания – развернув газетку на коленях, разодрала слипшиеся куски батона, пальцами поприжала сыр и, протянув половину, спросила: – Хочешь?
– Спасибо, нет.
– Ну сама смотри. А я так тебе не завидую. Ну ни на вот столечко даже, – отщипнув крошку, она кинула ее в рот. – Я и Маньке говорю – чему там завидовать? Это ж какая жизнь-то, муж не любит, дети чужие...
Младенчик захныкал, и Клавка, позабыв про бутерброд, торопливо затрясла коляску, вот только молчать – не замолчала.
– А я так тебе скажу, – она повысила голос, перекрикивая плач. – Не в свой дом полезла, не своею жизнею живешь, не своею и доживать будешь.
Этой ночью Федина впервые за долгое время не могла уснуть, а уснув, плакала в подушку, но муж не слышал – с самого начала по молчаливой договоренности супруги ночевали раздельно. Ее робкие попытки изменить ситуацию закончились мучительным объяснением Вацлава, раз и навсегда убившим надежду на что-то иное.
Но любовь в ее жизни все же была – Милочка, ее родной, ее дорогой, ее самый лучший ребенок, чистый, светлый, неиспорченный знанием той, другой, которая была до Фединой.
Ради Милочки она готова была убить, украсть, умереть, но пока требовалось лишь находиться рядом, и она находилась, радуясь каждой проведенной минуте, считая дни и бережно сохраняя в памяти самые светлые моменты.
Милочка и акварельные краски, яркие пятна, которые и не пятна вовсе, а солнце, небо и она, Желочка – Анжела он не выговаривал, а слово «мама» боялась сама Федина.
Милочка и рисунки манной кашей по столу и одежде. Довольная улыбка и счастливое курлыканье. Липкие от варенья ладошки, оставляющие отпечатки на стенах.
Милочка и книги – он любопытен, он хочет смотреть, трогать, пробовать на вкус и прочность. Все дети такие, но Милочка – особенный.
Она знала это с самой первой встречи, с самого первого взгляда, и знание помогало противостоять требованиям Вацлава, который с чего-то решил, что она балует ребенка.
– Хватит потакать всем его капризам, – требовал муж, в кои-то веки повысив голос. – Сегодня он залез к Сергею в портфель, а завтра в кошелек ко мне заберется!
Глупость какая, при чем здесь кошелек? И вообще нельзя так с ребенком, он же не нарочно, он любопытный просто, а Сергей мог бы и повыше портфель свой поставить, он-то старше, он-то понимает.
Или он нарочно? Ну конечно, Сергей Милочке завидует, как старшие завидуют младшеньким и любимым, потому и подстраивает эти неслучайные случайности. И если уж на то пошло, то никакой беды в попорченной тетради нет – перепишет.
А Милочка плачет, Милочка не привык, чтобы на него кричали. И эти слезы ножом по сердцу.
– Прости меня, – Анжела гасит ярость. – Это я виновата, не досмотрела, а он же... он же ребенок еще. Я понимаю, я не мать, не смогла, не...
Вацлав бледнеет и замолкает. И молчание, привычное в этом доме, становится вдруг невыносимым. Или это потому, что из-за прикрытой двери доносятся приглушенные всхлипы наказанного Милочки?
– Это ты меня прости, пожалуйста, – Вацлав берет за руку, переворачивает, проводит пальцем по ладони и в прикосновении нет ничего случайного. Более того, оно пугает явной намеренностью. – Я тебе всю жизнь поломал... использовал твое одиночество. Я виноват. Я сам надеялся, что будет иначе.
И Федина надеялась. Но теперь, привыкнув к тому, что есть, она не желала перемен. Зачем, ведь и так все хорошо?
И даже замечательно.
– Вот, возьми, – Вацлав принес черную шкатулку. – Пусть у тебя будет... тебе будет.
Желла открыла, заглянула и закрыла. То, что лежало внутри, ей было не интересно.
– Прости Милочку, – шепнула она. – Он же еще маленький... ему только пять еще.
– По-моему, ты преувеличиваешь, – заметила Женечка, мельком глянув на часы. – Извините, я скоро.
А она куда? Она вроде не курит, а туалет занят. Но ни Леля, ни Шурик, сразу вспомнивший о говядине, ни старуха на Женечкину эскападу внимания не обратили.
– Но все же девица чересчур... прямолинейна.
– И это хорошо. Это просто замечательно, правда, Геночка?
Не Геночка он, хотя ей не докажешь, ей все равно.
– И вечер просто чудесный. Спасибо, Лелечка, такой подарок... теперь мне будет с кем делиться воспоминаниями. Для начала воспоминаниями, – подчеркнула старуха, улыбаясь хитро и счастливо.
* * *
Если кого-то и удивила эта скоропалительная женитьба, казавшаяся да и бывшая жалкой попыткой вернуть утраченное былое равновесие, то виду не подавали – жалели. И ее, вдову, молодую да красивую, и его, пусть не молодого, но при троих детях, которым – каждый знает – без материной опеки никак.
– Ну-ну, – только и сказала Клавка рыжему кошаку, последнему из шести, прочие уже с месяц как по новым хозяевам жили. Кошак не ответил, зыркнул зеленым глазом да когти в обивку вонзил, чуял, верно, что и ему недолго в этой квартире осталось.
– А соседей могли б и позвать, – пожаловалась Манька супругу, и тот согласился. Васина ничего не сказала, просто тихо напилась.
Могли бы, но не позвали: никого не хотел видеть Вацлав, которому эта свадьба, совсем на свадьбу не похожая, казалась предательством. Не желала застолья и Федина, по робкой просьбе супруга оставившая прежнюю фамилию. А дети к свершившемуся отнеслись и вовсе равнодушно: Милочка был слишком мал, Дарья – замкнута, а Сергей и вовсе непонятен: вежливый, обходительный, но...
Нет, не лежала у Фединой к старшим душа, хоть и уговаривала себя, приучала, улыбалась старательно, завтраки готовила, банты завязывала, сказки рассказывала, да сама понимала – ложь это.
Не такой она себе эту жизнь представляла. Впрочем, другой не было.
Постепенно Федина привыкала и к Дарьиным истерикам, поводом к которым мог послужить любой пустяк, и к молчаливому, но постоянному упрямству Сержа, все и вся делавшего наперекор ее слову, и к равнодушию Вацлава. Эти трое стали неважны – чужие, случайные люди, существование рядом с которыми – необходимое условие, чтобы быть с Милочкой.
Милослав, Славик, Слава, Мила, Милочка, Милюша... Федина могла придумать тысячу и одну вариацию дорогого имени и украсить каждую сотней оттенков нежности.
По утрам он, растрепанный и сонный, хмурится, злится, трет глазенки кулачками и капризничает. А днем – игривый, любопытный, все-то ему надо потрогать, до всего дотянуться... К вечеру устает, успокаивается и уже можно на ручки взять, обнять, погладить, утереть чумазую мордашку, уговорить отправиться в кровать и, открыв толстенную книгу сказок, читать. Милочка заснет почти сразу, сунув ладошки под щеку, улыбаясь ей и радуясь тому, что она, Федина, рядом. Конечно, рядом: будь ее воля, она и ночевала бы в детской. Но Вацлав против.
Вацлав жесток. Он не понимает, что Милочка еще маленький, и ему забота нужна... Вацлав хочет от сына самостоятельности, ставит в пример Сержа, но тот в отца пошел – вежливая ледышка, а Милочка Анжелочкин, пусть и не ею рожденный, но ведь родной же.
Прошло пару лет. Как-то вдруг разродилась сыном Клавка. А чуть позже обзавелась дочкой Манька, не родной – приемной, светленькой да кудрявенькой, один в один похожей на Дарью. Впрочем, та подросла, подтянулась, очень быстро потеряв уютную детскую пухлость, которая сменилась угловатостью и худобой.
– В мать будет, – сказала как-то Клавка, с которой теперь пришлось встречаться часто: Клавка выходила с коляской, а Федина – с Милочкой. – Ну вылитая Элька. На лицо поглянь. А повадки? Никто ж не учил, но материны... а Сережка-то отцовой породы, головастенький.
Федина соглашалась, Федина прикусывала язык, с которого готово было сорваться едкое замечание, что эти-то хоть понятно какой породы, а у Клавки в коляске приблудыш, не пойми от кого прижитый, небось, ни в мать, ни в отца – ясно, что нагулянный.
– Ну а сама когда собираешься? Не старая же, – Клавка все не унималась. Говорливая она, и прежде-то не смолкала, а теперь и вовсе разошлась. – Или твой не хочет? Оно понятно, конечно, своих-то трое, куда четвертого, хотя, конечно, мог бы, чай копейки не считает...
Не считает, это верно. До чего-чего, а до денег Вацлав был нежадный, только вот радости от тех денег ровным счетом никакой.
Снова хотелось иного.
Не равнодушия. Не вежливости и уважения – любви. И снова почти до слез в подушку, до закушенной губы, до разбитой в порыве гнева чашки, до сдерживаемого из последних сил крика, до ненависти к той, которая эту любовь украла.
Почему она, даже мертвая, получала то, что должна была отдать живым?
– А Манька-то говорит, что ты хорошо устроилась, ну а я так не завидую, – Клавка достала из сумки бутерброд с сыром, завернутый в газету. Бумага пестрела жирными пятнами, а с одной стороны к ней прилип комочек белых ниток и длинный темный волос. Федина поморщилась, Клавка же на подобные мелочи не обратила внимания – развернув газетку на коленях, разодрала слипшиеся куски батона, пальцами поприжала сыр и, протянув половину, спросила: – Хочешь?
– Спасибо, нет.
– Ну сама смотри. А я так тебе не завидую. Ну ни на вот столечко даже, – отщипнув крошку, она кинула ее в рот. – Я и Маньке говорю – чему там завидовать? Это ж какая жизнь-то, муж не любит, дети чужие...
Младенчик захныкал, и Клавка, позабыв про бутерброд, торопливо затрясла коляску, вот только молчать – не замолчала.
– А я так тебе скажу, – она повысила голос, перекрикивая плач. – Не в свой дом полезла, не своею жизнею живешь, не своею и доживать будешь.
Этой ночью Федина впервые за долгое время не могла уснуть, а уснув, плакала в подушку, но муж не слышал – с самого начала по молчаливой договоренности супруги ночевали раздельно. Ее робкие попытки изменить ситуацию закончились мучительным объяснением Вацлава, раз и навсегда убившим надежду на что-то иное.
Но любовь в ее жизни все же была – Милочка, ее родной, ее дорогой, ее самый лучший ребенок, чистый, светлый, неиспорченный знанием той, другой, которая была до Фединой.
Ради Милочки она готова была убить, украсть, умереть, но пока требовалось лишь находиться рядом, и она находилась, радуясь каждой проведенной минуте, считая дни и бережно сохраняя в памяти самые светлые моменты.
Милочка и акварельные краски, яркие пятна, которые и не пятна вовсе, а солнце, небо и она, Желочка – Анжела он не выговаривал, а слово «мама» боялась сама Федина.
Милочка и рисунки манной кашей по столу и одежде. Довольная улыбка и счастливое курлыканье. Липкие от варенья ладошки, оставляющие отпечатки на стенах.
Милочка и книги – он любопытен, он хочет смотреть, трогать, пробовать на вкус и прочность. Все дети такие, но Милочка – особенный.
Она знала это с самой первой встречи, с самого первого взгляда, и знание помогало противостоять требованиям Вацлава, который с чего-то решил, что она балует ребенка.
– Хватит потакать всем его капризам, – требовал муж, в кои-то веки повысив голос. – Сегодня он залез к Сергею в портфель, а завтра в кошелек ко мне заберется!
Глупость какая, при чем здесь кошелек? И вообще нельзя так с ребенком, он же не нарочно, он любопытный просто, а Сергей мог бы и повыше портфель свой поставить, он-то старше, он-то понимает.
Или он нарочно? Ну конечно, Сергей Милочке завидует, как старшие завидуют младшеньким и любимым, потому и подстраивает эти неслучайные случайности. И если уж на то пошло, то никакой беды в попорченной тетради нет – перепишет.
А Милочка плачет, Милочка не привык, чтобы на него кричали. И эти слезы ножом по сердцу.
– Прости меня, – Анжела гасит ярость. – Это я виновата, не досмотрела, а он же... он же ребенок еще. Я понимаю, я не мать, не смогла, не...
Вацлав бледнеет и замолкает. И молчание, привычное в этом доме, становится вдруг невыносимым. Или это потому, что из-за прикрытой двери доносятся приглушенные всхлипы наказанного Милочки?
– Это ты меня прости, пожалуйста, – Вацлав берет за руку, переворачивает, проводит пальцем по ладони и в прикосновении нет ничего случайного. Более того, оно пугает явной намеренностью. – Я тебе всю жизнь поломал... использовал твое одиночество. Я виноват. Я сам надеялся, что будет иначе.
И Федина надеялась. Но теперь, привыкнув к тому, что есть, она не желала перемен. Зачем, ведь и так все хорошо?
И даже замечательно.
– Вот, возьми, – Вацлав принес черную шкатулку. – Пусть у тебя будет... тебе будет.
Желла открыла, заглянула и закрыла. То, что лежало внутри, ей было не интересно.
– Прости Милочку, – шепнула она. – Он же еще маленький... ему только пять еще.