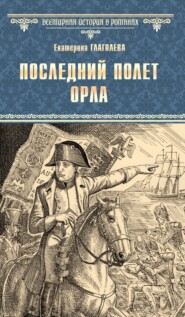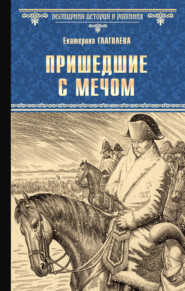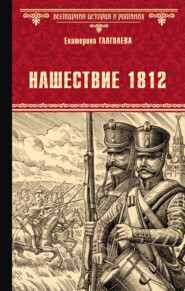По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Огонь под пеплом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Талантом Чернышева было сходиться с людьми, слушать и понимать их. Аббат Перрен, его домашний наставник, обучил его искусству непринужденной беседы, привив при этом стремление проникать в суть вещей; кровь отца – заслуженного генерала и сенатора, скончавшегося от ран, – заговорила в Саше, когда он двадцатилетним кавалергардским поручиком заслужил себе при Аустерлице орден Св. Владимира с бантом, присовокупив к нему затем золотую шпагу «За храбрость» и Георгиевский крест. Наконец, Фортуна сделалась его верной спутницей еще с отроческих лет. Первая встреча Саши с императором Александром была почти случайной – в Москве, на балу у князя Куракина по случаю коронации: они оказались рядом, когда танцевали котильон, и за час танцев пятнадцатилетний Чернышев назвал двадцатичетырехлетнему государю имена всех особ, присутствовавших в зале, ответив на все его вопросы. После несчастного сражения под Аустерлицем государь отправил поручика Чернышева на ночь глядя отыскать Кутузова (все его адъютанты были разосланы по другим делам), и Саша, оказавшись на распутье, угадал из трех дорог ту, что через две версты привела его к фельдмаршалу. Впервые приехав в Париж с письмом к русскому послу графу Толстому, в которое было вложено послание Александра к Наполеону, Чернышев был приглашен в Тюильри на следующий же день после прибытия, а не вместе с другими иностранцами – в особый приемный день, раз в две недели. Император французов заговорил с ним о Прусской кампании, и Саша осмелел до того, что позволил себе вступить с ним в спор о военном деле, чем поверг Толстого в совершенное изумление, однако Наполеон ничуть не рассердился, а напротив, просил Александра в ответном письме снова прислать к нему Чернышева. В Байонне, где Бонапарт дожидался испанского короля Карла IV и инфанта дона Фернандо, провозгласившего себя королем Фердинандом VII, чтобы объявить им, что отдаст испанский трон своему брату Жозефу, Чернышев удостоился чести обедать за одним столом с императором – и делить квартиру с генералом Савари, который должен был помешать ему шпионить. И всё же за время краткой остановки в Бордо на обратном пути штабс-ротмистр сумел выведать настоящее положение дел в Испании, узнав и о переброске туда французских войск, и о готовящемся восстании патриотов, и о недовольстве бордосцев континентальной блокадой Англии. Наконец, ему удалось ловко выкрутиться пару месяцев назад, когда Наполеон велел ему написать письмо к государю об Аспернском сражении, окончившемся для французов не самым лучшим образом. Министр иностранных дел маячил у него за спиной; Чернышев накатал восемь страниц по-французски, начав с того, что почитает себя счастливейшим из военных, пользуясь ежедневно наставлениями величайшего полководца, изобразив само сражение и описав подробности уничтожения мостов через Дунай, закончил же он так: «Если бы в то время австрийцами командовал император Наполеон, то совершенная гибель французов была бы неизбежна». Это письмо понравилось Бонапарту, а фраза, которую Чернышев привез ему из Вены («лучший генерал в австрийской армии есть генерал Дунай»), так его развеселила, что он велел вставить ее в бюллетень. Теперь же хитрить уже не придется: при Ваграме была одержана убедительная победа, и скоро Саша вернется в Петербург, чтобы доложить о ней государю.
Он обдумывал то, что расскажет при личной встрече, а не на бумаге. В последние недели Чернышев выезжал с Наполеоном на рекогносцировки, осматривал вместе с ним инженерные работы на Дунае, а во время самого сражения, продлившегося два дня, не отходил от него ни на шаг. Как умный человек (а в уме Бонапарту не откажешь) Наполеон любил иметь рядом собеседника, способного высказать свое мнение и даже оспорить его собственные суждения – разумеется, если замечания были дельные. Это и вправду стало хорошей школой для штабс-ротмистра, он начал постигать тактические приемы императора французов, приводившие его к победе. Так, Наполеон всегда стягивал для атаки большие массы войск, когда пехота прикрывала кавалерию и наоборот, а артиллерия могла оказать поддержку им обеим. Именно благодаря превосходной концентрации стрельбы при перекрестном огне французская артиллерия выиграла дуэль с австрийской. Кроме того, Наполеон мог менять свои распоряжения в зависимости от хода сражения, отнюдь не придерживаясь заранее намеченного плана, и перебрасывать войска туда, где они были нужнее всего. Наконец, солдаты так хорошо выучены, что даже гибель или ошибка старшего офицера не вызовет катастрофы: опытные унтер-офицеры сами способны выполнять необходимые маневры, чтобы сохранить строй или отступить в полном порядке… Но всё это он изложит в особой записке военному министру. А государю он скажет вот что.
При всём своем уме Бонапарт начал отрываться от земли, поставив самого себя на пьедестал. Возможно, от фимиама, который ему курят ежедневно, у него закружилась голова. Уже сейчас он больше думает о том, каким останется в памяти потомков, чем о мнении современников. О нет, он не закрывает глаз на неприглядную действительность, однако не позволяет обнажать ее другим. Луи Лежён как-то вздумал повеселить его рисунком, сделанным с натуры. Отряд французских фуражиров забрел в немецкий поселок, где был пожар, и принялся помогать поселянам. Спасая имущество, из домов выбрасывали всё самое ценное: одежду, книги, мебель, бочонки с вином, окорока и прочую снедь, а когда огонь был потушен, спасители превратились в мародеров, объелись и перепились, нарядились в женские платья и облачения пасторов и в таком виде двинулись назад, прихватив с собой то, что могли унести, но не рассчитали свои силы. Лежен изобразил пьяный кортеж, покинувший поселок: дорога усеяна кочанами капусты, арбузами, тыквами, выпавшими из неловких рук; впереди несчастный крестьянин погоняет большую свинью, которую ему приказали доставить в лагерь; его плачущая дочь идет тут же, не в силах расстаться с выкормленным ею поросенком; окружившая ее пьяная солдатня в шутовских нарядах наверняка отпускает сальные шутки… Наполеон разгневался при виде этой сценки, отнюдь не находя ее смешной, и сказал полковнику, что тот не должен тратить свой талант на подобные сюжеты. Величие французской армии – вот что должна прославлять его кисть! Он искренне не понимает, почему его не встречают в Австрии как освободителя, а в Тироле не стихает народное восстание. Двадцать поселков вокруг Вены обращены в пепел, земля на полях недавних сражений усеяна лоскутами одежды, разбитыми кирасами, свежими могилами; завтра обыватели вновь отправятся туда толпой, чтобы отыскивать раненых австрийцев среди мертвых тел, разлагающихся под палящим солнцем. Урожай собрать не удалось – его пожрал огонь, да и для новой пашни эти нивы уже не пригодны; вместо крестьян по ним бродят солдаты, подбирая ружья, сабли, кирасы, ядра (за каждый принесенный предмет обещана награда). Венские госпитали переполнены ранеными – безрукими и безногими калеками, которых теперь сотнями убивает тиф; нагие, обезображенные, они бьются в конвульсиях на полу… Бонапарт велит винить во всём этом австрийских генералов, вынудивших его прийти сюда, и клятвопреступника императора Франца, не пожелавшего ему покориться. Отвратительную изнанку прикрывает блестящий фасад: театры открыты, рестораны всегда полны, по аллеям Шёнбруннского парка гуляет хорошо одетая публика, явившаяся поглазеть на военный парад и императора французов… Но даже венские великосветские дамы, принимающие в своих салонах французских офицеров, пытаются фрондировать. Один из офицеров, купивший платок с планом города и его пригородов, сказал, что это очень удобно: находясь на поле боя, можно сморкаться в Вену. Все засмеялись, однако хозяйка дома тотчас парировала: венцы ценят такие платки еще больше, потому что, сидя дома, можно плевать на Шёнбрунн. Эту шутку остереглись передать Наполеону…
Нет, не то, это всё пустяки. Вот что важно: Ваграм стал последней каплей, переполнившей чашу терпения Наполеона, – он лишил Бернадота командования и отослал его.
Бернадоту многое сходило с рук, ведь он член семьи: уже лет десять как женат на Дезире Клари, бывшей невесте самого Бонапарта и младшей сестре Жюли, супруги Жозефа – испанского короля «Иосифа Наполеона». В шестом году Бернадот не пришел на помощь маршалу Даву, которому пришлось самому сражаться под Ауэрштедтом, в седьмом присоединился к армии только через двое суток после битвы при Эйлау, несмотря на приказ самого Бонапарта… Свояки ненавидят друг друга; Бернадот считает корсиканца расчетливым циником и лицемером, Бонапарт на дух не переносит заносчивого и болтливого гасконца, который сам не прочь примерить корону, хотя и называет себя республиканцем. Начальник штаба Бертье – тоже заклятый враг Бернадота; похоже, что именно ему гасконец должен быть «благодарен» за свою неудачу при Адерклаа: он с большой неохотой принял командование над корпусом из плохо обученных саксонцев, на чём настоял Наполеон, а в ходе самого сражения некоторые приказы императора попросту не доходили до маршала, потому что Бертье… забывал их передать. В отместку Бернадот издал приказ, в котором приписал победу при Ваграме исключительно мужеству и стойкости саксонцев; Бонапарт был разъярен – французы, вот кто вырвал победу!
Прежде сражения Чернышев несколько раз беседовал с князем де Понтекорво (таков был титул Бернадота) и пришел к выводу, что маршал просто не способен подчиняться кому бы то ни было, а император требует беспрекословного повиновения. Дух противоречия толкает Бернадота в объятия заговорщиков – не только военных, но и гражданских, за ним бы не мешало присмотреть, его разговорчивостью надо воспользоваться…
Кстати, со своими братьями Наполеон тоже плохо ладит в последнее время. Скорее всего, он откажется от мысли сделать своим наследником племянника. Он одержим идеей о династии Бонапартов, однако императрица Жозефина не в состоянии родить ему детей, а это значит…
* * *
«Приезжайте в Вену, я хочу видеть вас и дать вам новые доказательства нежной дружбы, которую я к вам питаю. Не сомневайтесь в том, какую цену я придаю всему, что касается до Вас. Тысячу раз нежно целую Ваши красивые ручки и один раз – ваши прекрасные уста. Н.».
2
Борго, 9 июля 1809 года.
Любезный брат!
Вы укоряете меня за то, что я редко докучаю Вам своими письмами, но мне, право, совестно обременять почтовую службу и изводить бумагу, которую, кстати, не так-то легко раздобыть в последние дни, ради унылых подробностей нашей скучной жизни в глуши, тогда как Ваши письма мы зачитываем до дыр, ибо они составляют наше единственное развлечение.
Мы живем безвылазно в нашей усадьбе; Vater занимается утром с управляющим и проверяет книги, пока я обхожу службы и распоряжаюсь насчет обеда; перед обедом он выходит на прогулку, после отправляется отдохнуть на часок и затем до самого вечера сидит у себя в кабинете: пишет мемуары. В это время мне строго-настрого запрещено играть на клавикордах, чтобы не мешать ему, поэтому я забросила музыку и пристрастилась к рисованию. Господин Рютенберг недавно похвалил мои акварели и рисунки полевых цветов, но я приписала его комплименты обычной любезности воспитанного человека; я прекрасно знаю, что не имею никаких талантов, но надо же чем-то спасать себя от скуки. Иногда Vater зовет меня к себе и зачитывает несколько страниц, которые я должна выслушивать в почтительном молчании, воздерживаясь от замечаний любого рода. Вечером, после ужина, если господин Мольтке почему-либо не в состоянии составить ему компанию, мы играем пару партий в шахматы или я читаю вслух из книги, которую укажет Vater. Поскольку его библиотека состоит в основном из военных трактатов и жизнеописаний великих людей, мне стоит большого труда воздерживаться от зевоты во время этого чтения, и это приводит его в раздражение. Ах, как мы были бы счастливы, если бы Вы смогли приехать к нам хотя бы на месяц! Больше Вы вряд ли выдержите, потому что мы надоедим Вам до смерти, ревниво вырывая Вас друг у друга, ненасытно наслаждаясь Вашим обществом и Вашими рассказами.
Наконец-то и у меня есть что рассказать Вам: третьего дня в Борго закрылся сейм, об открытии которого, верно, знали только вы один во всей Вестерботнии, и тоже благодаря мне. Vater нарочно не ездил в город, пока русский царь находился в Финляндии, и лишь вчера позволил мне поехать, чтобы сделать несколько визитов и купить кое-что из нужных вещей. Мёллерсверды принимали царя у себя; они готовились к этому несколько недель, но Vater запретил мне интересоваться приготовлениями и даже упоминать о них в разговоре; о том, чтобы поехать к ним на бал, не могло быть и речи, хотя я и без его запрета ни за что бы не поехала. Господин П., который гостил у Мёллерсвердов, немедленно покинул их, как только узнал, что? они затевают; он явился к нам среди ночи, кипя от гнева, и Vater долго не мог потом уснуть, так что пришлось ставить ему пиявок и класть уксусные компрессы на лоб. Мне претит передавать Вам досужие сплетни, но в городе все говорят лишь об одном: Мёллерсверды сильно рассчитывают на чары своей Ульрики, приглянувшейся императору, чтобы получить должность в новом правительстве. Не могу поручиться Вам за точность сведений, полученных из третьих рук, однако дыма без огня не бывает; если Вы встретите Карла М., спросите его сами, верно ли это. А впрочем, решайте сами. Вы знаете меня лучше меня самой и должны понимать мои чувства, среди которых господствует разочарование. Воистину, высокие идеалы стали недоступны для большинства людей, достойных лишь презрения! Как быстро они применяются к новым обстоятельствам! Казалось, еще вчера господин Мёллерсверд с гордостью читал нам письма Карла о стойкости наших солдат и о генерале Сандельсе, разделяющем с ними все лишения, готовым есть одну кашу на воде, лишь бы изгнать русских захватчиков из Финляндии, и сожалел о своей ране, помешавшей ему остаться в армии и защищать наше Отечество вместе с сыном, а ныне тот же самый человек выторговывает себе материальные выгоды в обмен на добродетель своей дочери! Надеюсь, ей кто-нибудь объяснит, что этот товар можно пустить в ход лишь один раз – в отличие от порока, из которого делают разменную монету.
Ах, дорогой Густав! Если бы я могла макать перо в свою горечь, буквы были бы чернее! Взять хотя бы этот сейм, который открывали с такой торжественностью: можно ли выдумать что-то более нелепое и ничтожное? Вместо радения об интересах нации – постыдное искательство и корыстолюбие; только крестьянское сословие еще помнило о вещах действительно важных, ходатайствуя, например, о праве пользоваться по-прежнему шведским языком во всех официальных бумагах, прошениях и судебных делах. Дворяне же и даже духовенство наперебой стремились захватить себе как можно больше привилегий, доходных мест и разных выгод, обобрав при этом других. Только теперь у меня раскрылись глаза, я вижу, почему мы оказались в столь незавидном положении, иначе и быть не могло!
Увидав, что кнут уже не нужен, царь припрятал его на время и щедрой рукой раздает отравленные пряники: в Або учредили правительственный совет, в Петербурге – некую комиссию для непонятных целей, обещают уменьшение налогов и прочие послабления, финляндцам раздают огромные жалованья, привлекая на русскую службу. Законами и казной ныне управляют отрешенные от шведской службы майоры и полковники, сосланные в Тавастланд и Эстерботнию и извлеченные оттуда, чтобы сделаться чиновниками. Не стоит и говорить, что их заботит только собственный карман, да им и ума бы не хватило ни на что иное, зато в корыстолюбии им равных нет: состоя на службе при полном жалованье и столовых деньгах, они выпрашивают для своих жен пенсии на булавки, а самим себе – прогонные на заграничные поездки для поправления здоровья, подорванного беспробудным пьянством… Мне рассказывали, что один из них, прежде прозябавший в полунищете и питавшийся солеными лещами с кислым молоком, принялся закатывать роскошные пиры и объелся до смерти! Стыд, стыд, стыд! Меня удивляет, однако, снисходительность царя: он должен понимать, что за деньги возможно купить только пресмыкательство, но не таланты. Не кроется ли в этом некий умысел? Ах, я, кажется, понимаю: он ждет, что, пожив несколько времени под управлением таких «сынов Отечества», мы сами попросим его прислать нам дельных чиновников из России, и тогда с остатками национальной гордости и коренными законами будет покончено. О Густав, как бы мне хотелось оказаться дурной пророчицей!
Простите, любезный брат, если я доставила Вам новые огорчения. У Вас хватает своих забот, Вы ждете от нас ободрения и поддержки, а я вместо этого сею уныние. Вот видите, как мало проку от моих писем! Но, ради бога, не лишайте нас своих, мы ждем их с нетерпением, какое может сравниться лишь с нетерпением царя Итаки, завидевшего родные берега после десятилетних скитаний!
Надеюсь, что Вы пребываете в добром здравии; мы ежедневно молимся вместе с Vater, прося Всевышнего сохранить Вас и уберечь от ран и болезней. Господи, сжалься над Швецией! Мысленно прижимаю Вас к сердцу, милый Густав, и целую Вас так нежно, как позволительно только любящей сестре.
Шарлотта
PS: Агнета Р. Вам кланяется, просит не забывать ее и по возможности написать ей хоть несколько строк, вложив в письмо для нас. Она тоже молится о Вас.
3
В центре комнаты стоял бильярдный стол с потертым зеленым сукном, но дожидавшиеся аудиенции были не в настроении развлекать себя игрой. Игнаций Потоцкий сидел на стуле, закинув ногу на ногу, Тадеуш Матушевич разглядывал картину «Первое вручение ордена Св. Стефана», Миколай Брониковский смотрел в окно. В этот час западное крыло Шёнбруннского замка находилось в тени; приятная прохлада овевала лицо, взгляд бродил по геометрическим узорам клумб, птичий щебет заглушал тревожные мысли.
Две недели назад князя Юзефа Понятовского восторженно встречали в Кракове, оставленном австрийцами; Кельце тоже был в руках поляков, как и Сандомир, а вот Лемберг пришлось оставить, чтобы не распылять свои силы. Весть о разгроме австрийцев при Ваграме воодушевила князя чрезвычайно; войска Домбровского и Сокольницкого соединились с корпусами Понятовского и Зайончека, чтобы взять армию эрцгерцога Карла в клещи и уничтожить, но тут прискакал курьер с сообщением о перемирии, подписанном в Цнайме двенадцатого июля. Мир сейчас, когда до победы оставался всего один шаг и Западная Галиция могла снова стать польской?.. Генерал Брониковский сам дрался при Ваграме и был поражен не меньше прочих внезапным прекращением войны. Конечно, он ничего не смыслит в большой политике, его дело – сражаться, а не критиковать действия императора, и всё же он был обескуражен. В Шёнбрунне шли парады и смотры; Удино, Мармона и Макдональда произвели в маршалы Империи, Наполеон раздавал генералам и чиновникам доходные поместья в Ганновере, Брониковскому же поручили сформировать Второй Вислинский легион из… австрийских пленных. Мыслимо ли, чтобы австрийцы пошли отвоевывать для Польши земли, которые сами у нее и отняли? Все знают, что войска Великого герцогства Варшавского сражаются вместе с французской армией, преследуя единственную цель – возрождение Отчизны. Сил мало, самые лучшие гибнут первыми; в начале кампании князю Понятовскому даже пришлось оставить Варшаву, чтобы сохранить армию, он смог освободить столицу лишь через сорок дней, и тогда дамы сняли траур, который носили всё это время… Приезд в Вену Потоцкого и Матушевича чрезвычайно обрадовал генерала: ему объявили, что он включен в депутацию от Галиции к императору французов; всё наконец-то разъяснится! Депутаты передали свои верительные грамоты Дюроку – «тени императора»; аудиенцию назначили на третье августа…
Напольные часы в углу пробили одиннадцать; белые с позолотой двери раскрылись.
Наполеон стоял, заложив правую руку за борт жилета; Дюрок сделал несколько шагов навстречу депутатам и шепотом предупредил Потоцкого, что император не желает слушать приготовленную им речь. В лице опытного политика не дрогнул ни один мускул, хотя Брониковский был уверен, что старик удивлен и встревожен. Гофмаршал представил посетителей, как полагалось по протоколу, все трое поклонились.
– Которой дорогой вы ехали сюда? – спросил император. – Долгим ли было путешествие? Что за правительство вас направило?
– Мы прибыли через Брюнн, из Галиции, – отвечал Потоцкий. – Новое правительство, учрежденное князем Понятовским, уполномочило нас сложить к подножию трона вашего величества свидетельства нашей покорности, умоляя при этом принять нас под ваше высокое покровительство.
Бонапарт переменил позу, сложив руки на груди.
– Я очень рад вашей верности; я вижу в ней доказательство вашего желания стать тем, чем вы были прежде. Я глубоко уважаю поляков, они все храбрецы, но чем выше возносится человек, тем больше умаляется его свобода: надобно применяться к событиям и обстоятельствам. Чего вы хотите от меня?
Матушевич обменялся удивленным взглядом с Брониковским: неужели непонятно?
– Я не подбивал вас на восстание, не брал с вас никаких обязательств и сам вам ничего не обещал. – Своими фразами Наполеон кромсал прекрасные надежды. – В Варшаву я вступил победителем, тем полякам я мог и должен был помочь, но повернись дело иначе…
«Я бросил бы их на произвол судьбы», – договорил за него Брониковский. Ему стало жарко, во рту пересохло и сильно хотелось пить.
– Не стану отрицать: у Франции нет и никогда не было лучших союзников, чем Швеция, Персия, Польша и Турция, но Польша – это та статья, на которой обрываются все переговоры с Россией, – продолжал Бонапарт, поясняя свои слова жестами. – Россия прекрасно понимает, что уязвима только со стороны Польши; теперь, когда Швеция уступила ей Финляндию, с севера Петербург защищен. Не моя вина в том, что в седьмом году Швецией правил безумец: я вынужден был разделить свои силы и отправить двадцать тысяч штыков в Штральзунд, где эти одержимые хотели высадить десант вместе с англичанами. Если бы эти двадцать тысяч были у меня при Фридланде, я перешел бы Неман и восстановил бы Польшу, хотя Австрия и была способна помешать этим планам, держа в Галиции наготове сто тридцать тысяч солдат. Однако восстановление Польши не так невыгодно для Австрии, как для России. Будь я русским императором, я ни за что не согласился бы ни на малейшее увеличение Варшавского герцогства, наоборот, я сражался бы с ним год, два, десять – сколько потребуется, чтобы уничтожить его. При этом я не могу не признать, что Россия много помогла мне в эту кампанию.
– Помогла? – вырвалось одновременно у Потоцкого и Матушевича.
Корпус князя Голицына практически бездействовал и нарочно продвигался вперед очень медленно, из-за этого Сандомир пришлось отбивать у австрийцев дважды, а осада Кракова затянулась так надолго…
– Вы возразите мне, что они не сражались так, как вы. – Наполеон заложил руки за спину, сделал несколько шагов, потом резко повернулся к депутатам. – Да, но почему? Потому что они должны были соединиться с вами – с вами, их природным врагом. Будь на вашем месте французы, русские были бы уже здесь: им нет дела до того, что Австрия обескровлена, лишь бы Польша не приложила к этому руку. Увидев же, что вы сражаетесь одни, без французов, они прекрасно поняли, что вы стремитесь к приращению своих земель, а на это Россия не может смотреть спокойно. Но и Франция не может ввязаться в войну ради вас, ибо для этого ей придется послать к вам на помощь сто тысяч, даже сто пятьдесят тысяч солдат – десяти тысяч вам будет мало.
– Но ваше величество! – взмолился Потоцкий. Наполеон остановил его, выставив вперед ладонь.
– Я знаю, что восстановить Польшу – значит вернуть равновесие в Европу, но этого невозможно сделать без войны с Россией, – отчеканил он. – Россию же можно будет принудить к этому, лишь полностью уничтожив ее армию.
Депутаты сокрушенно молчали, не зная, что на это возразить. Император заговорил снова:
– Князь Понятовский допустил оплошность, овладев Галицией не от моего имени. Русские никогда не вторглись бы в земли, охраняемые моими орлами. Провозглашать везде имя саксонского короля[2 - Саксонский король Фридрих Август был также великим герцогом Варшавским.] – значит навлечь на этого государя новую войну – не как с союзником Франции, а один на один, между ним и Россией.
Он сделал еще несколько шагов по комнате.
– Вот вы говорите, что Россия в эту кампанию не сделала ни единого выстрела. А мне какое дело? Общая цель достигнута: повсюду, куда дошли русские, австрийцы отступили, без русских князю Понятовскому было бы не удержаться в обеих Галициях – Западной и Восточной. Разделив свои малые силы, он не преуспел бы нигде, объединив их, он оказался силен лишь в одном месте. Кстати, сколько жителей в Галиции?
Потоцкий переглянулся с Матушевичем.
– Я полагаю, свыше трех миллионов человек, ваше величество, хотя перепись населения давно не проводилась, – ответил он, и Матушевич согласно кивнул.
– Она не сможет выставить столько же войск, сколько Варшавское герцогство, – отрезал Наполеон. – Если вы поставите под ружье шестьдесят, даже семьдесят тысяч солдат, Франции всё равно придется держать наготове сто пятьдесят тысяч для их поддержки, чтобы Россия не вздумала напасть на вас. Вы должны понять, что в данный момент восстановление Польши невозможно. Я не могу ввязываться в войну, в которой у Франции не будет всех шансов на победу. Я не хочу воевать с Россией, тем более что она не вмешивается в мои дела в Испании, Португалии и Папской области.
– Вы сказали, сир, что французские орлы уберегли бы наши земли от вторжения русских, – подал голос Матушевич. – Мы здесь, чтобы просить вас о покровительстве, мы с благодарностью и покорностью…
– Вы хотите, чтобы я дал вам французского короля? – перебил его Бонапарт. – Дьявол, это значило бы развязать войну. Франции и думать об этом незачем. Объявить рекрутский набор на четыре года раньше срока, разорить Францию просто из удовольствия вести войну – я не могу на это пойти. Войну нельзя начинать, если не получишь от нее очевидных выгод. И потом, вы сами видели, как тяжело французам воевать в вашей стране: климат отвратительный, дорог нет, непролазная грязь, болезни, приличного вина не достать – французы не захотят сражаться на севере.
Потоцкий подбирал слова, но император не дал ему их высказать.
– Не скрою: я питаю особую любовь к вашей нации, – продолжил он снисходительным тоном. – В ваших светских гостиных я чувствую себя, словно в Париже, в вашем обхождении и ваших обычаях есть что-то французское. Но все личные чувства в политике ничего не значат. Согласитесь, что вашей нацией трудно управлять. Я дал вам в короли одного из мудрейших монархов Германии, и то еще находятся горячие головы, стремящиеся ему перечить, хотя им совершенно не в чем его упрекнуть.
Он обдумывал то, что расскажет при личной встрече, а не на бумаге. В последние недели Чернышев выезжал с Наполеоном на рекогносцировки, осматривал вместе с ним инженерные работы на Дунае, а во время самого сражения, продлившегося два дня, не отходил от него ни на шаг. Как умный человек (а в уме Бонапарту не откажешь) Наполеон любил иметь рядом собеседника, способного высказать свое мнение и даже оспорить его собственные суждения – разумеется, если замечания были дельные. Это и вправду стало хорошей школой для штабс-ротмистра, он начал постигать тактические приемы императора французов, приводившие его к победе. Так, Наполеон всегда стягивал для атаки большие массы войск, когда пехота прикрывала кавалерию и наоборот, а артиллерия могла оказать поддержку им обеим. Именно благодаря превосходной концентрации стрельбы при перекрестном огне французская артиллерия выиграла дуэль с австрийской. Кроме того, Наполеон мог менять свои распоряжения в зависимости от хода сражения, отнюдь не придерживаясь заранее намеченного плана, и перебрасывать войска туда, где они были нужнее всего. Наконец, солдаты так хорошо выучены, что даже гибель или ошибка старшего офицера не вызовет катастрофы: опытные унтер-офицеры сами способны выполнять необходимые маневры, чтобы сохранить строй или отступить в полном порядке… Но всё это он изложит в особой записке военному министру. А государю он скажет вот что.
При всём своем уме Бонапарт начал отрываться от земли, поставив самого себя на пьедестал. Возможно, от фимиама, который ему курят ежедневно, у него закружилась голова. Уже сейчас он больше думает о том, каким останется в памяти потомков, чем о мнении современников. О нет, он не закрывает глаз на неприглядную действительность, однако не позволяет обнажать ее другим. Луи Лежён как-то вздумал повеселить его рисунком, сделанным с натуры. Отряд французских фуражиров забрел в немецкий поселок, где был пожар, и принялся помогать поселянам. Спасая имущество, из домов выбрасывали всё самое ценное: одежду, книги, мебель, бочонки с вином, окорока и прочую снедь, а когда огонь был потушен, спасители превратились в мародеров, объелись и перепились, нарядились в женские платья и облачения пасторов и в таком виде двинулись назад, прихватив с собой то, что могли унести, но не рассчитали свои силы. Лежен изобразил пьяный кортеж, покинувший поселок: дорога усеяна кочанами капусты, арбузами, тыквами, выпавшими из неловких рук; впереди несчастный крестьянин погоняет большую свинью, которую ему приказали доставить в лагерь; его плачущая дочь идет тут же, не в силах расстаться с выкормленным ею поросенком; окружившая ее пьяная солдатня в шутовских нарядах наверняка отпускает сальные шутки… Наполеон разгневался при виде этой сценки, отнюдь не находя ее смешной, и сказал полковнику, что тот не должен тратить свой талант на подобные сюжеты. Величие французской армии – вот что должна прославлять его кисть! Он искренне не понимает, почему его не встречают в Австрии как освободителя, а в Тироле не стихает народное восстание. Двадцать поселков вокруг Вены обращены в пепел, земля на полях недавних сражений усеяна лоскутами одежды, разбитыми кирасами, свежими могилами; завтра обыватели вновь отправятся туда толпой, чтобы отыскивать раненых австрийцев среди мертвых тел, разлагающихся под палящим солнцем. Урожай собрать не удалось – его пожрал огонь, да и для новой пашни эти нивы уже не пригодны; вместо крестьян по ним бродят солдаты, подбирая ружья, сабли, кирасы, ядра (за каждый принесенный предмет обещана награда). Венские госпитали переполнены ранеными – безрукими и безногими калеками, которых теперь сотнями убивает тиф; нагие, обезображенные, они бьются в конвульсиях на полу… Бонапарт велит винить во всём этом австрийских генералов, вынудивших его прийти сюда, и клятвопреступника императора Франца, не пожелавшего ему покориться. Отвратительную изнанку прикрывает блестящий фасад: театры открыты, рестораны всегда полны, по аллеям Шёнбруннского парка гуляет хорошо одетая публика, явившаяся поглазеть на военный парад и императора французов… Но даже венские великосветские дамы, принимающие в своих салонах французских офицеров, пытаются фрондировать. Один из офицеров, купивший платок с планом города и его пригородов, сказал, что это очень удобно: находясь на поле боя, можно сморкаться в Вену. Все засмеялись, однако хозяйка дома тотчас парировала: венцы ценят такие платки еще больше, потому что, сидя дома, можно плевать на Шёнбрунн. Эту шутку остереглись передать Наполеону…
Нет, не то, это всё пустяки. Вот что важно: Ваграм стал последней каплей, переполнившей чашу терпения Наполеона, – он лишил Бернадота командования и отослал его.
Бернадоту многое сходило с рук, ведь он член семьи: уже лет десять как женат на Дезире Клари, бывшей невесте самого Бонапарта и младшей сестре Жюли, супруги Жозефа – испанского короля «Иосифа Наполеона». В шестом году Бернадот не пришел на помощь маршалу Даву, которому пришлось самому сражаться под Ауэрштедтом, в седьмом присоединился к армии только через двое суток после битвы при Эйлау, несмотря на приказ самого Бонапарта… Свояки ненавидят друг друга; Бернадот считает корсиканца расчетливым циником и лицемером, Бонапарт на дух не переносит заносчивого и болтливого гасконца, который сам не прочь примерить корону, хотя и называет себя республиканцем. Начальник штаба Бертье – тоже заклятый враг Бернадота; похоже, что именно ему гасконец должен быть «благодарен» за свою неудачу при Адерклаа: он с большой неохотой принял командование над корпусом из плохо обученных саксонцев, на чём настоял Наполеон, а в ходе самого сражения некоторые приказы императора попросту не доходили до маршала, потому что Бертье… забывал их передать. В отместку Бернадот издал приказ, в котором приписал победу при Ваграме исключительно мужеству и стойкости саксонцев; Бонапарт был разъярен – французы, вот кто вырвал победу!
Прежде сражения Чернышев несколько раз беседовал с князем де Понтекорво (таков был титул Бернадота) и пришел к выводу, что маршал просто не способен подчиняться кому бы то ни было, а император требует беспрекословного повиновения. Дух противоречия толкает Бернадота в объятия заговорщиков – не только военных, но и гражданских, за ним бы не мешало присмотреть, его разговорчивостью надо воспользоваться…
Кстати, со своими братьями Наполеон тоже плохо ладит в последнее время. Скорее всего, он откажется от мысли сделать своим наследником племянника. Он одержим идеей о династии Бонапартов, однако императрица Жозефина не в состоянии родить ему детей, а это значит…
* * *
«Приезжайте в Вену, я хочу видеть вас и дать вам новые доказательства нежной дружбы, которую я к вам питаю. Не сомневайтесь в том, какую цену я придаю всему, что касается до Вас. Тысячу раз нежно целую Ваши красивые ручки и один раз – ваши прекрасные уста. Н.».
2
Борго, 9 июля 1809 года.
Любезный брат!
Вы укоряете меня за то, что я редко докучаю Вам своими письмами, но мне, право, совестно обременять почтовую службу и изводить бумагу, которую, кстати, не так-то легко раздобыть в последние дни, ради унылых подробностей нашей скучной жизни в глуши, тогда как Ваши письма мы зачитываем до дыр, ибо они составляют наше единственное развлечение.
Мы живем безвылазно в нашей усадьбе; Vater занимается утром с управляющим и проверяет книги, пока я обхожу службы и распоряжаюсь насчет обеда; перед обедом он выходит на прогулку, после отправляется отдохнуть на часок и затем до самого вечера сидит у себя в кабинете: пишет мемуары. В это время мне строго-настрого запрещено играть на клавикордах, чтобы не мешать ему, поэтому я забросила музыку и пристрастилась к рисованию. Господин Рютенберг недавно похвалил мои акварели и рисунки полевых цветов, но я приписала его комплименты обычной любезности воспитанного человека; я прекрасно знаю, что не имею никаких талантов, но надо же чем-то спасать себя от скуки. Иногда Vater зовет меня к себе и зачитывает несколько страниц, которые я должна выслушивать в почтительном молчании, воздерживаясь от замечаний любого рода. Вечером, после ужина, если господин Мольтке почему-либо не в состоянии составить ему компанию, мы играем пару партий в шахматы или я читаю вслух из книги, которую укажет Vater. Поскольку его библиотека состоит в основном из военных трактатов и жизнеописаний великих людей, мне стоит большого труда воздерживаться от зевоты во время этого чтения, и это приводит его в раздражение. Ах, как мы были бы счастливы, если бы Вы смогли приехать к нам хотя бы на месяц! Больше Вы вряд ли выдержите, потому что мы надоедим Вам до смерти, ревниво вырывая Вас друг у друга, ненасытно наслаждаясь Вашим обществом и Вашими рассказами.
Наконец-то и у меня есть что рассказать Вам: третьего дня в Борго закрылся сейм, об открытии которого, верно, знали только вы один во всей Вестерботнии, и тоже благодаря мне. Vater нарочно не ездил в город, пока русский царь находился в Финляндии, и лишь вчера позволил мне поехать, чтобы сделать несколько визитов и купить кое-что из нужных вещей. Мёллерсверды принимали царя у себя; они готовились к этому несколько недель, но Vater запретил мне интересоваться приготовлениями и даже упоминать о них в разговоре; о том, чтобы поехать к ним на бал, не могло быть и речи, хотя я и без его запрета ни за что бы не поехала. Господин П., который гостил у Мёллерсвердов, немедленно покинул их, как только узнал, что? они затевают; он явился к нам среди ночи, кипя от гнева, и Vater долго не мог потом уснуть, так что пришлось ставить ему пиявок и класть уксусные компрессы на лоб. Мне претит передавать Вам досужие сплетни, но в городе все говорят лишь об одном: Мёллерсверды сильно рассчитывают на чары своей Ульрики, приглянувшейся императору, чтобы получить должность в новом правительстве. Не могу поручиться Вам за точность сведений, полученных из третьих рук, однако дыма без огня не бывает; если Вы встретите Карла М., спросите его сами, верно ли это. А впрочем, решайте сами. Вы знаете меня лучше меня самой и должны понимать мои чувства, среди которых господствует разочарование. Воистину, высокие идеалы стали недоступны для большинства людей, достойных лишь презрения! Как быстро они применяются к новым обстоятельствам! Казалось, еще вчера господин Мёллерсверд с гордостью читал нам письма Карла о стойкости наших солдат и о генерале Сандельсе, разделяющем с ними все лишения, готовым есть одну кашу на воде, лишь бы изгнать русских захватчиков из Финляндии, и сожалел о своей ране, помешавшей ему остаться в армии и защищать наше Отечество вместе с сыном, а ныне тот же самый человек выторговывает себе материальные выгоды в обмен на добродетель своей дочери! Надеюсь, ей кто-нибудь объяснит, что этот товар можно пустить в ход лишь один раз – в отличие от порока, из которого делают разменную монету.
Ах, дорогой Густав! Если бы я могла макать перо в свою горечь, буквы были бы чернее! Взять хотя бы этот сейм, который открывали с такой торжественностью: можно ли выдумать что-то более нелепое и ничтожное? Вместо радения об интересах нации – постыдное искательство и корыстолюбие; только крестьянское сословие еще помнило о вещах действительно важных, ходатайствуя, например, о праве пользоваться по-прежнему шведским языком во всех официальных бумагах, прошениях и судебных делах. Дворяне же и даже духовенство наперебой стремились захватить себе как можно больше привилегий, доходных мест и разных выгод, обобрав при этом других. Только теперь у меня раскрылись глаза, я вижу, почему мы оказались в столь незавидном положении, иначе и быть не могло!
Увидав, что кнут уже не нужен, царь припрятал его на время и щедрой рукой раздает отравленные пряники: в Або учредили правительственный совет, в Петербурге – некую комиссию для непонятных целей, обещают уменьшение налогов и прочие послабления, финляндцам раздают огромные жалованья, привлекая на русскую службу. Законами и казной ныне управляют отрешенные от шведской службы майоры и полковники, сосланные в Тавастланд и Эстерботнию и извлеченные оттуда, чтобы сделаться чиновниками. Не стоит и говорить, что их заботит только собственный карман, да им и ума бы не хватило ни на что иное, зато в корыстолюбии им равных нет: состоя на службе при полном жалованье и столовых деньгах, они выпрашивают для своих жен пенсии на булавки, а самим себе – прогонные на заграничные поездки для поправления здоровья, подорванного беспробудным пьянством… Мне рассказывали, что один из них, прежде прозябавший в полунищете и питавшийся солеными лещами с кислым молоком, принялся закатывать роскошные пиры и объелся до смерти! Стыд, стыд, стыд! Меня удивляет, однако, снисходительность царя: он должен понимать, что за деньги возможно купить только пресмыкательство, но не таланты. Не кроется ли в этом некий умысел? Ах, я, кажется, понимаю: он ждет, что, пожив несколько времени под управлением таких «сынов Отечества», мы сами попросим его прислать нам дельных чиновников из России, и тогда с остатками национальной гордости и коренными законами будет покончено. О Густав, как бы мне хотелось оказаться дурной пророчицей!
Простите, любезный брат, если я доставила Вам новые огорчения. У Вас хватает своих забот, Вы ждете от нас ободрения и поддержки, а я вместо этого сею уныние. Вот видите, как мало проку от моих писем! Но, ради бога, не лишайте нас своих, мы ждем их с нетерпением, какое может сравниться лишь с нетерпением царя Итаки, завидевшего родные берега после десятилетних скитаний!
Надеюсь, что Вы пребываете в добром здравии; мы ежедневно молимся вместе с Vater, прося Всевышнего сохранить Вас и уберечь от ран и болезней. Господи, сжалься над Швецией! Мысленно прижимаю Вас к сердцу, милый Густав, и целую Вас так нежно, как позволительно только любящей сестре.
Шарлотта
PS: Агнета Р. Вам кланяется, просит не забывать ее и по возможности написать ей хоть несколько строк, вложив в письмо для нас. Она тоже молится о Вас.
3
В центре комнаты стоял бильярдный стол с потертым зеленым сукном, но дожидавшиеся аудиенции были не в настроении развлекать себя игрой. Игнаций Потоцкий сидел на стуле, закинув ногу на ногу, Тадеуш Матушевич разглядывал картину «Первое вручение ордена Св. Стефана», Миколай Брониковский смотрел в окно. В этот час западное крыло Шёнбруннского замка находилось в тени; приятная прохлада овевала лицо, взгляд бродил по геометрическим узорам клумб, птичий щебет заглушал тревожные мысли.
Две недели назад князя Юзефа Понятовского восторженно встречали в Кракове, оставленном австрийцами; Кельце тоже был в руках поляков, как и Сандомир, а вот Лемберг пришлось оставить, чтобы не распылять свои силы. Весть о разгроме австрийцев при Ваграме воодушевила князя чрезвычайно; войска Домбровского и Сокольницкого соединились с корпусами Понятовского и Зайончека, чтобы взять армию эрцгерцога Карла в клещи и уничтожить, но тут прискакал курьер с сообщением о перемирии, подписанном в Цнайме двенадцатого июля. Мир сейчас, когда до победы оставался всего один шаг и Западная Галиция могла снова стать польской?.. Генерал Брониковский сам дрался при Ваграме и был поражен не меньше прочих внезапным прекращением войны. Конечно, он ничего не смыслит в большой политике, его дело – сражаться, а не критиковать действия императора, и всё же он был обескуражен. В Шёнбрунне шли парады и смотры; Удино, Мармона и Макдональда произвели в маршалы Империи, Наполеон раздавал генералам и чиновникам доходные поместья в Ганновере, Брониковскому же поручили сформировать Второй Вислинский легион из… австрийских пленных. Мыслимо ли, чтобы австрийцы пошли отвоевывать для Польши земли, которые сами у нее и отняли? Все знают, что войска Великого герцогства Варшавского сражаются вместе с французской армией, преследуя единственную цель – возрождение Отчизны. Сил мало, самые лучшие гибнут первыми; в начале кампании князю Понятовскому даже пришлось оставить Варшаву, чтобы сохранить армию, он смог освободить столицу лишь через сорок дней, и тогда дамы сняли траур, который носили всё это время… Приезд в Вену Потоцкого и Матушевича чрезвычайно обрадовал генерала: ему объявили, что он включен в депутацию от Галиции к императору французов; всё наконец-то разъяснится! Депутаты передали свои верительные грамоты Дюроку – «тени императора»; аудиенцию назначили на третье августа…
Напольные часы в углу пробили одиннадцать; белые с позолотой двери раскрылись.
Наполеон стоял, заложив правую руку за борт жилета; Дюрок сделал несколько шагов навстречу депутатам и шепотом предупредил Потоцкого, что император не желает слушать приготовленную им речь. В лице опытного политика не дрогнул ни один мускул, хотя Брониковский был уверен, что старик удивлен и встревожен. Гофмаршал представил посетителей, как полагалось по протоколу, все трое поклонились.
– Которой дорогой вы ехали сюда? – спросил император. – Долгим ли было путешествие? Что за правительство вас направило?
– Мы прибыли через Брюнн, из Галиции, – отвечал Потоцкий. – Новое правительство, учрежденное князем Понятовским, уполномочило нас сложить к подножию трона вашего величества свидетельства нашей покорности, умоляя при этом принять нас под ваше высокое покровительство.
Бонапарт переменил позу, сложив руки на груди.
– Я очень рад вашей верности; я вижу в ней доказательство вашего желания стать тем, чем вы были прежде. Я глубоко уважаю поляков, они все храбрецы, но чем выше возносится человек, тем больше умаляется его свобода: надобно применяться к событиям и обстоятельствам. Чего вы хотите от меня?
Матушевич обменялся удивленным взглядом с Брониковским: неужели непонятно?
– Я не подбивал вас на восстание, не брал с вас никаких обязательств и сам вам ничего не обещал. – Своими фразами Наполеон кромсал прекрасные надежды. – В Варшаву я вступил победителем, тем полякам я мог и должен был помочь, но повернись дело иначе…
«Я бросил бы их на произвол судьбы», – договорил за него Брониковский. Ему стало жарко, во рту пересохло и сильно хотелось пить.
– Не стану отрицать: у Франции нет и никогда не было лучших союзников, чем Швеция, Персия, Польша и Турция, но Польша – это та статья, на которой обрываются все переговоры с Россией, – продолжал Бонапарт, поясняя свои слова жестами. – Россия прекрасно понимает, что уязвима только со стороны Польши; теперь, когда Швеция уступила ей Финляндию, с севера Петербург защищен. Не моя вина в том, что в седьмом году Швецией правил безумец: я вынужден был разделить свои силы и отправить двадцать тысяч штыков в Штральзунд, где эти одержимые хотели высадить десант вместе с англичанами. Если бы эти двадцать тысяч были у меня при Фридланде, я перешел бы Неман и восстановил бы Польшу, хотя Австрия и была способна помешать этим планам, держа в Галиции наготове сто тридцать тысяч солдат. Однако восстановление Польши не так невыгодно для Австрии, как для России. Будь я русским императором, я ни за что не согласился бы ни на малейшее увеличение Варшавского герцогства, наоборот, я сражался бы с ним год, два, десять – сколько потребуется, чтобы уничтожить его. При этом я не могу не признать, что Россия много помогла мне в эту кампанию.
– Помогла? – вырвалось одновременно у Потоцкого и Матушевича.
Корпус князя Голицына практически бездействовал и нарочно продвигался вперед очень медленно, из-за этого Сандомир пришлось отбивать у австрийцев дважды, а осада Кракова затянулась так надолго…
– Вы возразите мне, что они не сражались так, как вы. – Наполеон заложил руки за спину, сделал несколько шагов, потом резко повернулся к депутатам. – Да, но почему? Потому что они должны были соединиться с вами – с вами, их природным врагом. Будь на вашем месте французы, русские были бы уже здесь: им нет дела до того, что Австрия обескровлена, лишь бы Польша не приложила к этому руку. Увидев же, что вы сражаетесь одни, без французов, они прекрасно поняли, что вы стремитесь к приращению своих земель, а на это Россия не может смотреть спокойно. Но и Франция не может ввязаться в войну ради вас, ибо для этого ей придется послать к вам на помощь сто тысяч, даже сто пятьдесят тысяч солдат – десяти тысяч вам будет мало.
– Но ваше величество! – взмолился Потоцкий. Наполеон остановил его, выставив вперед ладонь.
– Я знаю, что восстановить Польшу – значит вернуть равновесие в Европу, но этого невозможно сделать без войны с Россией, – отчеканил он. – Россию же можно будет принудить к этому, лишь полностью уничтожив ее армию.
Депутаты сокрушенно молчали, не зная, что на это возразить. Император заговорил снова:
– Князь Понятовский допустил оплошность, овладев Галицией не от моего имени. Русские никогда не вторглись бы в земли, охраняемые моими орлами. Провозглашать везде имя саксонского короля[2 - Саксонский король Фридрих Август был также великим герцогом Варшавским.] – значит навлечь на этого государя новую войну – не как с союзником Франции, а один на один, между ним и Россией.
Он сделал еще несколько шагов по комнате.
– Вот вы говорите, что Россия в эту кампанию не сделала ни единого выстрела. А мне какое дело? Общая цель достигнута: повсюду, куда дошли русские, австрийцы отступили, без русских князю Понятовскому было бы не удержаться в обеих Галициях – Западной и Восточной. Разделив свои малые силы, он не преуспел бы нигде, объединив их, он оказался силен лишь в одном месте. Кстати, сколько жителей в Галиции?
Потоцкий переглянулся с Матушевичем.
– Я полагаю, свыше трех миллионов человек, ваше величество, хотя перепись населения давно не проводилась, – ответил он, и Матушевич согласно кивнул.
– Она не сможет выставить столько же войск, сколько Варшавское герцогство, – отрезал Наполеон. – Если вы поставите под ружье шестьдесят, даже семьдесят тысяч солдат, Франции всё равно придется держать наготове сто пятьдесят тысяч для их поддержки, чтобы Россия не вздумала напасть на вас. Вы должны понять, что в данный момент восстановление Польши невозможно. Я не могу ввязываться в войну, в которой у Франции не будет всех шансов на победу. Я не хочу воевать с Россией, тем более что она не вмешивается в мои дела в Испании, Португалии и Папской области.
– Вы сказали, сир, что французские орлы уберегли бы наши земли от вторжения русских, – подал голос Матушевич. – Мы здесь, чтобы просить вас о покровительстве, мы с благодарностью и покорностью…
– Вы хотите, чтобы я дал вам французского короля? – перебил его Бонапарт. – Дьявол, это значило бы развязать войну. Франции и думать об этом незачем. Объявить рекрутский набор на четыре года раньше срока, разорить Францию просто из удовольствия вести войну – я не могу на это пойти. Войну нельзя начинать, если не получишь от нее очевидных выгод. И потом, вы сами видели, как тяжело французам воевать в вашей стране: климат отвратительный, дорог нет, непролазная грязь, болезни, приличного вина не достать – французы не захотят сражаться на севере.
Потоцкий подбирал слова, но император не дал ему их высказать.
– Не скрою: я питаю особую любовь к вашей нации, – продолжил он снисходительным тоном. – В ваших светских гостиных я чувствую себя, словно в Париже, в вашем обхождении и ваших обычаях есть что-то французское. Но все личные чувства в политике ничего не значат. Согласитесь, что вашей нацией трудно управлять. Я дал вам в короли одного из мудрейших монархов Германии, и то еще находятся горячие головы, стремящиеся ему перечить, хотя им совершенно не в чем его упрекнуть.