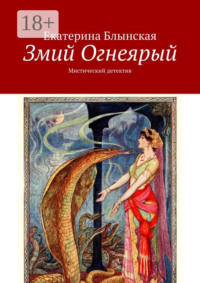Время ласточек
– Просто так, – заурчала в трубку Лиза, – тут же село… все слушают… очень внимательно нас. Тут есть странный чувак с фамилией Отченаш.
– Пипец!
– Да и вообще… много людей разных. Тут много молодежи.
– А! Ну ладно, ладно… поняла… Твоя стихия! Деревня! Тебе только в этом колхозе жить!
– Ничего ты не поняла… – выдохнула Лиза. – Передаю трубку маме.
Нина Васильевна все положенные пятнадцать минут рассказывала старшей дочери про рыбу, дождь, сено, дом, соседей… Лиза вышла ждать ее на «центер», где из центровых зданий желтело свежевыкрашенное одноэтажное здание сельпо, привалившись к липам, догнивал фельдшерский пункт и еще держался крепкий синий домик почты. Лиза принялась, отчего-то волнуясь, рвать огромные пуховки одуванчиков, слушая дальние гудки мотоциклистов, собирающихся возле клуба, и визг девок… Интересно, ходит этот Глеб в клуб?
Но Глеба там не было. Он болел с похмелья и лежал в углу своего свистящего сквозняком дома, привязав к голове капустный лист. Назавтра он собирался идти наниматься к москвичам и страшно боялся, что ему откажут.
* * *Утром он встал не так рано, около восьми. Лиза в это время еще спала, безучастная ко всем проблемам. Глеб, чисто выбритый, наодеколоненный ярым «Шипром»[8], в чистой рабочей одежде и даже причесанный, стоял под яблоней около палисадника и поглядывал на часы. Вот ударило восемь, и он, услышав негромкий звон посуды, стукнул в затвор.
Тяжело подошла Нина Васильевна, отперла. На гладком и толстом лице ее выразилась приветная улыбка. Глебу она сразу понравилась.
– Добра дня вам в хату, – выдавил Глеб, поправляя воротничок.
– Здравствуйте.
– Мне сказали, что у вас можно поработать.
– Да, можно… но это к мужу… Борис! – позвала Нина Васильевна, поправляя фартук. – Заходите, песик у нас еще щенок. Не укусит.
Песик, напротив, скакал и ласкался к Глебу. Тот схватил его в объятия:
– Бимка, ах ты, стервец такой, тоже к москвичам переехал, да? Ну, теперь тебя тут откормят хоть.
Ушастый Бимка лизал Глебу лицо.
– Это ж я его спас… у Отченаша сука ощенилась, Рута… да вы видели ее… семь щенков было… вот одного я отбил, домой его брал… выкормил… потом, когда он такой красавец стал, ну какой же ты красавец вырос… всем стал нужен, да?
Бим, словно поддакивая, погавкивал и радовался, подрагивая палевой шкурой, и вместе с хвостом от радости заносило его задние ноги. Нина Васильевна хотела спросить, кто же еще переехал к москвичам, но не посмела. Тут уже подошел Григорьич. Огромный мужик с бородой и очень щербатыми зубами. С подозрительным прищуром он протянул руку. Глеб поздоровался.
– Однако… – хмыкнул Григорьич на твердое рукопожатие Глеба. – Я Борис Григорьевич. И что ты умеешь?
Нина Васильевна отошла, оставив их вдвоем.
– Все умею.
– Нет, так не говорят… Ты скажи: можно я покажу свои… ну, навыки, а вы посмотрите и решите, нужен я вам или нет?
Глеб улыбнулся:
– Можно Машку за ляжку и козу на возу, а у нас так не пойдет. Вы говорите, что вам надо, и я все сделаю.
– А! Так ты еще и поговорить… ну, хорошо… Ты договорись тогда с кем-нибудь… барашка мне.
– Ярку или барана?
– Да что той ярки… давай барашка. Хорошего только. Молодого.
– К коему часу вам того барана?
– Ну… чем быстрее, тем лучше.
– Добре!
Глеб с улыбкой вышел со двора. Дело выгорело, будет он с работой.
* * *Ночью Глеб, экипировавшись во все черное, пошел на овчарню за барашком. Овчарню устроил бывший председатель колхоза, Черемшин, владетель и арендатор почти всей территории бывшего колхоза, который не выдержал испытания приватизацией. Половина хозяйства, как и прежде, была отдана частникам в субаренду под животноводство, а часть площадей он засеивал модной соей, подсолнечником и буряком. Одно не изменилось: люди, привыкшие к колхозной жизни, по-прежнему, считали, что все вокруг их собственность. И в чем-то они были правы, ведь эти земли веками обрабатывались их предками – за барщину, за оброк, за подати, за что угодно. И народ знал, что в России все может измениться, но не правило, позволяющее тихо взять, что плохо лежит. Овчарня на землях, в общем-то уже государственных, приносила доход в одно лицо: Черемшину. Это был местный великий князь, который в подпитии называл народ народцем и «убогими».
Босой, чтобы не издавать звуков, с повязанной на голове серой рубахой и засученными рукавами, Глеб переметнулся через изгородь. Где-то в селе залаяли собаки. В сторожке светилось окно. Сторож спал, наработавшись в колхозных сараях. Глеб еще днем к нему приходил с хорошим таким «путячим» самогоном, от которого его самого можно было вынести как барана.
Отара спала, перебекиваясь между собой, словно считала: ты здесь? первый, первый, я второй… И я здесь. Второй… Я третий… Старый алабай Яша умер в зиму, и сторож, хоть и не был доволен тем, что у него постоянно пропадают барашки, не спешил брать нового. Ему было жалко на свои деньги кормить огромного пса, а «колхоз» не выделял на это дело никаких средств. Словом, на то, что «колхоз» лишался периодически голов скота, сторожу было наплевать. Да и тише было без собаки. Радовало это и Глеба.
Тишина висела над яром. Плотина поблескивала водным зеркалом, похожим с высокого берега на вареник. Рыба плескалась в теплоте лунной дорожки. Глеб, оглядывая пушистые камни овец, неслышно, словно жук-плавунец, под вздохи стада нашел барана покрупнее у самой изгороди и достал из-за спины мешок. Баран странно себя вел, он смотрел одним глазом, но не двигался.
– Тс-с… – шепнул Глеб, – я убью тебя не больно.
Вытянув начищенный до серебряного блеска штык-нож, он ударил единственно верным движением в шею. Баран вздохнул, и ноги его медленно поехали из-под свалявшихся боков в разные стороны. Глеб быстро перекинул барана на плечо, перепутав ему ноги, и, перевалив его через изгородь, насунул мешок на голову и шею, чтобы запах крови не разбудил стадо. За скирдой его ждала невидимая в темноте смирная лошадка Рева. Бросив барана через ее спину, Глеб прыгнул следом и неслышно погнал лошадь за плотину, на бетонные плиты около водозаборной ямы, чтобы обескровить еще теплого барана в безопасности и тишине.
Вечером за Лизой приехали местные на мотоциклах.
– Лизка, выходи! – крикнул Серега Пухов, самый высокий и симпатичный кудрявый парень, что наливал ей у Лельки.
Лиза вышла. Приехавших было трое.
– Поехали гулять, – сказал Пухов, которому Лиза нравилась, но подходить к ней одному было страшно.
– А то ты засиделась тут… Клуб-то работает пока… а вот закроет его Колдун, и так и не узнаешь, что да как, – поддакнул худой и длинный Корявый.
– Нет, не пойду… Поздно… – сказала Лиза, подергивая плечами.
– Ну, чего поздно, мы тебя батьке вернем в целости и сохранности, – не унимался Сергей.
– Не пойду, – повторила Лиза.
– Чего?
– Не хочу гулять…
– Ну ладно, не хочу… гуляешь же! Чего там! – вставил самый младший парень, Кочеток, приглядевший Лизу еще пару дней назад, когда резал ясени у Отченаша.
– Тебе-то что… – отмахнулась Лиза. – И вообще, я же сказала, что не езжу и не гуляю ни с кем… Позовите, возьмите других.
Со двора вышла Лелька, услыхав журчание мотоциклов.
– О, Борона, уговори ее гулять! – крикнул ей Сергей. – Чего она не тусит с девками-то, не ездит в клуб…
– Шо ей ездить, к ней же Глеб ходит, – отозвалась Лелька.
– Да ну, ладно заливать! – засмеялся Кочеток, и Корявый как-то мерзко заржал, сразу окинув Лизу жалостным взглядом. – Хлопчик?
– А, ну если Горемыкин, то тогда мы перед этим фраером пасуем… Он у нас же… тут самый главный этот…
– По бабам! – прыснул Кочеток. – Ой, ты извини… но как же так… А мы не знали…
Лизе хотелось провалиться сквозь землю. Она побледнела через веснушки до серого цвета и, сверкнув глазами, сказала:
– Езжайте, и нечего тут грохотать своими мотоциклами!
От такой наглости Сергей вскинул свой и без того чуть вздернутый девчачий нос:
– Ладно! Мы поедем! Но если твой Глебка нам встретится, мы ему бока обдерем, уж извини…
– Он не мой! Вон его невеста, – вспыхнула Лиза и, ударив дверью, заперла двор.
– А, мы и здесь не в курсах! Вот те парочка, гусь да гагарочка! – И ребята снова заржали.
Все трое прыгнули на свои мотоциклы, подняли рев, и через минуту только пыль над дорогой напоминала об их щекотливом предложении.
Лелька как ни в чем не бывало стояла у воротины и, ковыряя землю пяткой, ждала корову из стада. Ей было обидно и страшно, что Лиза переманит всех ее женихов.
– Сучка… – выругалась Лиза, заходя на веранду. – Только бы мне насолить!
Глава шестая
Странное имя для девочки
В юности Аделина все больше плакала. Она не понимала, почему ее никто не любит. Отец с матерью жили в разных домах, но на одной улице. Аделина и ее сестра Жанна бегали то к отцу, то к матери в гости, но не оставались ни там, ни там больше чем на день-два.
Мать Аделины, Варвара Игоревна, работала всю жизнь учителем истории, а после стала директором школы в Кос-Слободке, совсем близко от Одессы. Отец, герой-краснофлотец, после войны тяжело болел и учил ребят судомоделированию в школьном кружке.
Старшая, Жанна, вышла замуж за бандеровца и уехала в Черновцы. Отец плохо ладил с зятем. Аделина отучилась в педучилище и пошла по стопам матери, но грезила о том, что когда-то оставит село и вырвется в город. А там…
В город она часто ездила на танцы и неожиданно познакомилась с Вовчиком, мотористом теплохода «Александр Вертинский». Обыкновенная история закончилась романом.
Аделина очень скоро оказалась в незнакомом месте, в мазаной хате, где моторист временно квартировался, не собираясь вести оседлый образ жизни. Он видел мир – где только не мотался. Вовчик был красив как бог, разговаривал стихами и цитатами, играл на гитаре и пел как Высоцкий. Или даже как Окуджава. Не влюбиться Аделина не могла и не хотела. В ней была сильна тяга любить. В общем, Аделина очень быстро потеряла голову: ее качало на волнах.
Когда Аделина поняла, что волны и педагогика несовместимы, было поздно. Внутри нее завязался сынок, и теперь можно было только гадать, к чему приведет признание родителям. Мать бы неминуемо потащила ее в больницу. Но отец, герой-краснофлотец, пошел на «Вертинского» и, притащив за вихры любвеобильного Вовчика, отвел молодых в сельсовет, где они были расписаны по причине тяжелой беременности невесты.
Не нравилось же Аделининому отцу все. Особенно новая фамилия дочери – Горемыкина.
Решено было взять жить Вовчика к себе, прекратив его блуждание по портам, и отец из-за этого даже ненадолго сошелся с матерью.
Уживались Аделина и Вовчик тяжело. Он все время где-то не то ходил, не то плавал. Но уже не физически, а духовно… Тесть посадил его с собой в школу, делать эсминцы и броненосцы[9] в миниатюре. Пока рос Глеб, Аделина доучилась и немного попреподавала в сельской школе историю.
Потом супруг сбежал в столярную мастерскую, в Одессу. Начал крепко поддавать. Время близилось к девяностым, и умерший от инфаркта дед не застал уже новорожденную Маринку.
После рождения Маринки все окончательно пошло прахом.
Мать Аделины работала директором школы, и ей было за нее стыдно. Она попросила дочь жить со своими выродками независимо. И Аделина уехала к мужу – в Одессу, где наконец поняла, что не может жить с ним в общежитской комнатушке.
Он же начал серьезно пить и серьезно бить Аделину.
Был случай, когда отец замахнулся на мать, а шестилетний Глеб подпрыгнул и уцепился в его запястье зубами, да так, что брызнула кровь.
Маринке тогда не было еще года, и Аделине некуда было идти.
Подруга по общаге рассказала ей, что можно познакомиться через газету. И она написала в газету «Все для вас» и еще в газету «Из рук в руки», где томные кавалеры искали дам без вредных привычек, а вполне симпатичные дамы – кавалеров без жилищных проблем.
Но поиск жениха затянулся. Аделине пришлось вернуться в село, в дом отца, где никто не жил, и устроиться в школе. Учителей был полный комплект – взяли уборщицей.
Маринка была еще маленькой, и забота о ней полностью пала на Глеба.
И так прошло еще несколько лет.
Дети росли. Глеб учился отчаянно плохо, потому что сразу после школы бежал домой готовить и убирать. У Аделины начались проблемы со здоровьем.
Внезапно ей диагностировали костный туберкулез.
Мать Аделины, казалось, с каждым годом отстранялась от дочери. К тому же, например, Жанна была вполне здорова и устроена, радовала хорошими, упитанными внуками и даже помогала финансово.
Аделина чахла, ушла с работы и передвигалась с трудом. Маринка пошла в первый класс, а одиннадцатилетний Глеб устроился на почту разносить корреспонденцию. От отца не было никаких вестей. Может быть, с ним что-то случилось?..
И Аделина поехала в город, проверить. Пришла к общаге и услышала от коменданта, что «этот красивый парень» давно уехал «жить хорошо», а Аделина – «не мать ли его»?
Аделина и вправду состарилась и была страшна, «как смерть коммуниста». Так говорил покойный отец.
Бабуля могла дать немного овощей и фруктов, но видно было, что она стыдится младшей дочери, что ей неудобно перед соседками иметь приживалу, да еще с детьми.
Глеб разбил огородик, бегал за Маринкой и ухаживал за матерью, которая взялась каждую весну и осень хворать. Благо, зимы теплые, кое-как удавалось Глебу потихоньку со всем сживаться и справляться.
Тем временем Аделина решилась все же поменять жизнь и выйти замуж.
Она смотрела на себя в зеркало и замечала, что еще не совсем все потеряно. Что глаза ее, пронзительно-лазурные, как тихое мелкое море Азов, могут еще нравиться.
Аделина продолжала писать в газеты.
Несколько недель спустя ей пришло одно-единственное письмо от Геннадия Белопольского из небольшого южнорусского села Антоново. Геннадий писал, что готов принять ее с детьми, что у него своя хата «без родаков», что работает он водителем на грузовике. Что долго служил в армии и теперь, на покое, хочет тишины и спокойствия, семью, огород и хозяйство.
А что Геннадий на самом деле – Адольф; что его отец-поляк в войну был полицаем, а после войны сбежал с родины и растворился в большом городе; что сам он охранял зэков по контракту; что никакой он при этом, в конце концов, не водитель, – жених умолчал.
Но прислал невесте себя в молодости (которая обидно быстро прошла). На фото Адольф был в тельняшке, с крупными кудрями, с пушистыми усами и довольно хорошей фигурой.
Аделина рассматривала фото, стараясь влюбиться: других желающих жениться не было.
Завязалась переписка.
К зиме Аделина забрала из школы документы детей и собралась покупать билеты – ехать к жениху. Нужно было сказать об этом матери.
После рассказа о новых надеждах мать долго стучала пальчиками по столу, крытому жаккардовой скатертью, и молчала.
Аделина сидела на венском стуле, сама похожая на гнутый венский стул. Дети молча ждали во дворе, почти не двигаясь.
– И как же ты будешь жить там? – спросила мать Аделину.
Аделина почувствовала интерес к своей судьбе и чуть не разрыдалась. Но мать быстро сменила тон.
Рядом с зачуханной Аделиной, смахивающей на босоногую чернавку, она выглядела как пышная придворная дама, ведущая сытый великосветский образ жизни. Может быть, мать просто так изобразила некое волнение, чтобы хоть как-то сделать вид, что она Аделине не чужая.
– Вот был бы отец жив… Вон он бы тебе сказал… Ехать с детьми… в такую даль… неизвестно к кому…
– Я уже старая. Я тут никому не нужна, – всхлипнула Аделина.
Мать посмотрела на ее неспокойные руки, перевитые венами, на упавшие глаза и тонкие ножки в серых бабьих чулках на резинке, которые Аделина носила для тепла даже летом, и решила, что одной дочкой она вполне может пожертвовать, тем более что с детьми этой дочки она так и не нашла общего языка. И вообще, не надо было называть ее Аделиной. Это странное имя для девочки. А внуки… Эти дети были ей противны. Эти дети были вылитый моторист-красавчик-алкоголик Вовчик, особенно Глеб.
Мать отпустила Аделину. Помогла ей собраться и купила билеты.
Аделина летела на крыльях. Наконец-то она отдохнет от метаний и сокрушений, ведь она еще ничего – к тому же интеллигентка!
Глеб тащил узелки, сумки и рюкзак.
Маринка была также в волнении: она стрекотала, расспрашивая про деревню, про животных, про то, есть ли там речка, будет ли у нее комнатка.
Адольф приехал к переезду на грузовике, сильно дисгармонируя со своим фото, которое он отослал Аделине.
Его вид удивил Аделину до потрясения. Но она молча запихнула вещи и детей в кабину, а сама залезла следом.
Они дотряслись до Адольфовой хаты, крашенной в грязно-синий цвет, у самого леса, который был через дорогу. Прямо за колонкой. Из леса сильно пахло хвоей. Даром что была поздняя осень.
Адольф суетился. Заносил вещи. В хате было бедно.
Аделина обвела две комнатки взглядом.
Глеб остолбенело взирал на низкие, затканные паутиной потолки, на вал пустых пивных бутылок в порожнем красном углу, на высокие старинные кровати с шарами.
Он оглянулся на мать, и в глазах его мелькнуло отчаяние. Но, увидав в глазах матери еще большее отчаяние, он смял свое и взял себя в руки.
– Где мы спать будем? – спросил Глеб ломающимся своим голосом, крепко схватив за руку Маринку, тоже обмершую от обстановки.
– А, вон в городней хате кровать, вы там спите. А мы с матерью тут!
Глеб кивнул. Отпустил Маринку и, найдя ведро, пошел на колодец.
Природа кругом была тиха. Пели петухи. Веяло покоем. Из леса вылетали сойки с некрасивыми криками, и вяло лизались кошки, сидящие при дороге. Глеб уже кое-что понимал. И теперь он понял, что ему некоторое время придется привыкать к этому всему. Болезненно, муторно привыкать. Это как прямить кривые гвозди. Ни к черту они не нужны, но ведь прямить надо.
И Глеб, сжавшись, решил, что и это он переживет.
Глава седьмая
Жизнь с Адольфом
Глеб и Маринка утром шли до остановки и, стоя на тягучем ветру, холодном от близкой реки, ждали школьный автобус. Потом автобус, набитый сельскими детьми, ехал в Снагость семь километров по набухшей грязью дороге.
Дети в автобусе орали, Глеб держал за руку Маринку и знал, что он теперь один за всех. В школе они на время становились нормальными детьми, а не потерпевшими и пострадавшими. За партами они брали в руки ручки и карандаши, открывали тетради и писали. Открывали книги и читали. Для Глеба это было священнодействием, непонятным, зачем оно нужно вообще в мире, где есть только драки, зуботычины, мат, грязь всех мастей и субстанций, серая улица, темный дом с великолепными портретами поляцких предков Адольфа – и сам Адольф, гнусный тиран из учебника истории.
Адольф почти сразу отвез Аделину в райцентр, где их отказались расписывать: у Аделины паспорт был украинский, а у Адольфа российский. Нужно было ехать в консульство в Москву, подавать документы на получение гражданства, но никто, разумеется, этого делать не стал.
Ровно через девять месяцев со дня приезда Аделины с детьми в Антоново, в жаркий день, прямо дома, родился Яська.
К тому времени Адольф Белопольский уже понял, что Аделина от него никуда не уедет, что ее дети могут тихо сидеть, прибитые, в углу, что она сама по местным меркам красивая, страстная женщина (особенно если ее хорошенько побить). А жена поняла, что мужу перечить нельзя. Не зря он зэков охранял и среди односельчан носил прозвище отца – Адоль.
Яська родился, был забран в больницу вместе с матерью по скорой помощи, и Глеб с Маринкой остались одни с отчимом.
Адольф, изгнанный из колхоза и получавший некую пенсию, не мог прокормить их даже картошкой: все его деньги шли на самогон. Летом добавлялись дачники, и добрые люди давали денег на жизнь ради беременной жены, а еще он продавал грибы, рыбу и орехи.
Собирал по заброшкам цветмет. Летом на жизнь хватало.
Глебу пора было получать паспорт. Но мать куда-то дела документы, и ему выписали справку в военкомате. С этой справкой он и пришел устраиваться к Черемшину, фермеру, на работу.
Органы опеки знали, что Белопольские люди подозрительные, но ведь никто еще никого не убил… Да и таких семей везде полно.
В школе к Глебу относились спокойно, как и ко всем. Он сразу же отвоевал место у окна с хорошенькой девочкой Наташей и переписывал у отличницы Наташи все, что она ему показывала.
Наташе также льстило соседство Глеба, который был не такой мордатый и громкий, как все деревенские. Да и ситуация их сближала: Наташина мать, намаявшись в Питере в девяностые, тоже вернулась в село и вышла замуж за бывшего одноклассника. Только в их случае брак удался.
В другое, свободное от уроков время Глеб смотрел на Наташу как на картину, и как только она прикасалась к нему летящим краем платья или локотком, у него темнело в глазах от счастья.
Но за скромной и тихой Наташей стал ухлестывать антоновский мальчик Сережка Пухов, на полголовы выше Глеба.
Правда, Глебу это не помешало. Он сначала подрался с Пуховым за школой, а потом спросил Наташу, любит ли она Пухова.
Увы, Сережка ей нравился больше. Тогда для Глеба закончилась и эта красота. Он бросил школу, так и не доучившись седьмого класса.
Он пас коров, резал скот на ферме, возил сено, таскал домой зерно. Завел коня, на котором мог ездить до работы, и на вопрос, может ли помочь, никогда никому не отказывал.
Мать с маленьким Яськой очень радовалась, что Глеб ее поддерживает.
Но на все его вопросы о том, не пора ли вернуться в Одессу и хотя бы попытаться найти отца или сблизиться с бабкой, Аделина отвечала вздохами.
Глеб понимал, что для женщины это стыдно. Но не мог понять, почему мать заложила себя в жертву чему-то очень спорному.
Глеб стал говорить как все местные – путая суржик и чисто русский. Иногда он брал Маринкины школьные книжки, прочитывал за ночь и долго думал, куря в потолок, над тем, что мог бы стать героем Лермонтова или Шолохова.
Книжки он любил, потому что они давали ему возможность хоть на время выпасть из действительности.
Перечитав на пастбище Маринкину школьную программу на лето, взятую из школьной библиотеки, он пошел в библиотеку взрослую, откуда его с позором прогнали. Для записи нужен был паспорт или свидетельство о рождении. Но их не было.
– Ты же умный парень! – кричала на него усатая библиотекарша Маруся. – Иди учись! Ты таковой сметкий та головастый! А возьми домой списанную литературу!
И Глеб доставал из полусырого сарайчика книги прошлых времен, отчищал их от побегов черной плесени и читал.
Да, Глеб сильно отличался от местных. И он отчего-то взял себе в голову, что если уедет отсюда, то без него погибнет вся семья.
Глеб обратился к матери: а не пора ли ей поехать с ним в Москву, попробовать узакониться? Ведь Яська тоже получил некую справку и жил, ожидая гражданства. Мать только пожала плечами.
– А на кой тебе в селе паспорт?
И Глеб согласился с ней, видя, что ей не только ходить по двору тяжело: ей тяжело просто жить.
Аделина, откормив Яську, вышла на работу в местную амбулаторию уборщицей. Также ездила три раза в неделю в сельсовет и убирала там.
Глеб смотрел на мать как-то очень преломленно, нездешне. В его глазах она была другой. Он помнил и принимал ее той, которой она была там. В Одессе.
Бабуля иногда присылала гривны, от которых не было толку. Чтобы их поменять, нужен был паспорт и город.
А отсюда до города было далеко. Пока Адольф ездил менять гривны, так как только у него был паспорт, он успевал их пропить и прогулять.
Все трое Горемыкиных – Аделина, Глеб и Маринка – вполне оправдывали свою фамилию, которой их наградил моторист Вовчик.
Но прошло несколько лет, и они втянулись. Яська перебрался на руки к Маринке, которая закончила семь классов и тоже бросила школу.
Аделина немного расстроилась, но, оглядев дочь, подумала, что такую красавицу сразу возьмут замуж.
У Маринки же от всего этого житья была очень странная психика.
Только Яська не давал ей возможности расслабиться: она в отсутствие матери сама стала матерью ему.
Глеб работал с утра до ночи, Адольф жил своей жизнью, приходя домой на рогах и притаскивая местных алкашей.
Аделина чахла в уголке и тоже немного стала «принимать на душу», чем еще сильнее разогнала свою болезнь. Увы, никто не собирался ничего делать. Кроме Глеба, который был вынужден стать в этой семье главным.
Колесо времени катилось, дни летели и не обещали ничего хорошего.
Глава восьмая
Не невеста
Через несколько дней после приезда пацанов на мотоциклах Лелька прибежала к Лизе, сильно икая и прищуриваясь.
– Ну что, заслал сватов к тебе этот змей? – спросил Григорьич, впуская соседку.