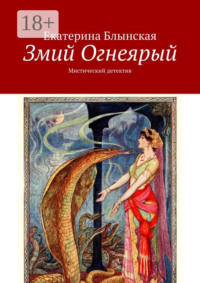Время ласточек
Лес или ждал, или звал Лизу. Но тогда она еще словно спала, не слыша его первобытного зова.
Глава вторая
Назад, к корням и листьям
Если посмотреть на Антоново с большой высоты, оно похоже на журавля, раскрылившегося рядом с рекой. Распахнутые крылья – это Набережная улица, лапы – Середовка и Корчаковка, шея и клюв – Бессаловка и Слободка. Пройдет каких-то двадцать лет, и местная администрация приравняет все улицы к трем и назовет их по-другому, чуждо. А вот этот отросток – от одной из длинных ног – останется: это Боровка, уходящая в лес, примыкающий одним своим боком к реке, Боровка лежит вдоль леса, и этот лес выходит аж к райцентру, сельской его части.
Высокий левый берег то поднимается кручей у леса, то опускается вровень с водой. Когда-то Сейм был судоходным, но это время давно прошло – пока в верховьях не построили атомную станцию и водозаборные пруды, он еще бежал. После того как появились шлюзы и насыпи, утишающие течение, Сейм здорово утих, стал медленным, начал зарастать и заболачиваться. Но все-таки это была еще крупная, чистая река, еще в конце девяностых нипочем не желавшая сдаваться людям.
Сам Сейм на карте выглядит словно морозный узор на стекле. Столько у него отростков, проток, речушек, ручьев, извилистых русел… Он вьется, очень непрямой, заковыристый, как будто змея, которой мальчишка наступил на хвост.
Меловая гора над Сеймом венчает собой место встречи равнины и возвышенности. Наслоения ее тектонических плит хранят еще тайны ледниковой древности… На тихих южнорусских берегах Сейма попадаются булыжники не хуже карельских великанов, а с Меловой горы почти к самой воде спускается гигантская тропа из мегалитических камней.
Меловых гор как таковых в этих краях полно, но все они уже ближе к Украине. От Антонова до Украины чуть больше тридцати километров, а от Обуховки, где отчий дом Григорьича, и вовсе пять: старики все еще «балакают» на суржике и очень обижаются, когда их язык называют «мовой».
– Мы слободские! – говорит какая-нибудь бабка, если приезжает новый дачник и спрашивает что-то по-русски.
И начинается игра слов и смыслов – весьма кстати местным жителям в случае претензий:
– Ты шо! Я на твоем нэ розумию!* И вы мене не поймэтэ!
Но вернувшиеся на родину предков Нина Васильевна и Борис Григорьич очень даже хорошо знали эту хитрость тутошних жителей. Они все «розумели».
В тяжелые девяностые Нина Васильевна вплыла дважды разведенной матерью-одиночкой. Борис Григорьич попался ей совершенно случайно, в суде, где Нина Васильевна скандалила с бывшим мужем-иностранцем, не желавшим лишаться родительских прав на Лизу, – а Борис расходился с бывшей женой.
Этому «нехорошему человеку», шведу Матиасу, в конце семидесятых Нина Васильевна печатала на дому Бродского и Высоцкого. С ним уже тогда все было понятно. Он не звал за границу, боясь КГБ, поэтому роман продлился чуть больше трех месяцев.
А вот Нина Васильевна многого ждала от «нехорошего человека» шведа Матиаса. Как минимум уехать из Союза вместе с Ленусей, дочкой от первого брака, и жить в Европе. Но нет, не сложилось. Поэтому, когда родилась Лиза, рыжая, как опавшая сосновая хвоя в ноябре, Нина Васильевна записала ее под своими отчеством и фамилией. И через третьи руки получала помощь от выдворенного Матиаса, которая, впрочем, скоро иссякла.
Отец присылал хорошие деньги, на которые Нина Васильевна с Ленусей и младшей, Лизой, некоторое время безбедно жили…
С Борисом Григорьичем сошлись, когда Лизе еще не исполнилось четырнадцати, и Нина Васильевна сразу же заговорила о даче. Внезапно выяснилось, что родом они из соседних сел: Борис из Обуховки, Нина из Антонова. Давно их унесло из Черноземья, давно прошла армия у Бориса и учеба у Нины. Прошло полжизни у каждого, и вот они встретились.
Оказалось, что обуховский дом стоит заколоченный, а антоновский продан без ведома Нины Васильевны старухой-матерью некоему украинцу Шурику. У Нины Васильевны с матерью были плохие отношения на почве того, что Нина разводилась и слишком часто влюблялась. Мать, даже умирая, с ней не помирилась. А отец повесился еще в семидесятых годах, болея от военных ран. Наследием этого характера, совершенно железобетонно-непоколебимого, Нина не гордилась, но передала его Лизе, в которой северная холодность переплескивалась с южным малороссийским жаром.
Нина Васильевна до пятидесяти лет чуралась своего происхождения и говорила всем, что она «человек мира». Что она вовсе не из деревни, что ее родители городские жители и в Москве она оказалась благодаря своему уникальному уму. Действительно, отличная учеба и работа экономистом на стройкомбинате возвысили Нину Васильевну над ее происхождением. Теперь у нее была и квартира в центре Москвы, и две дочери, одна из которых уже пребывала в браке за «новым русским».
Именно участие Ленуси в жизни матери диктовало весь стиль жизни новообразованной семьи. Ленуся уволила мать с работы, полностью взяла ее и Лизу на содержание, помогая деньгами. Муж Ленуси, Мишуня, был щедрым человеком с крупным доходом, и помощь деньгами никак не влияла на его благосостояние. Он мог бы легко содержать пятьдесят таких семей, но ограничился родственниками – правда, всеми.
Был один немаловажный нюанс: Ленусе очень нравилось жить с мамой. И она считала, что, пока мама не замужем, а Лизка не мешается, никто не против того, что Ленуся с супругом поживут в родительской квартире.
И они несколько лет жили все вместе, не зная горя, пока вдруг не появился Григорьич. Встал вопрос о разделении.
– Я семью делить не буду. У нас клан, – сказал Мишуня. – Если Борька хочет, пусть живет с нами.
Еще бы «Борька» не захотел! Только стало тесно и тяжело, и назревал вопрос о летнем отдыхе.
– Пусть купят себе дом и ездят на дачу, – и Мишуня достал из кармана тысячу баксов.
Нина Васильевна оскорбилась тогда. Она все же уговорила Бориса поехать на родину предков и посмотреть домик его родителей.
И как только наступило лето, они загрузили в машину Лизу, вещи и разное барахло и уехали на долгих три месяца покорять Обуховку.
Дом пришлось восстанавливать, но Мишуня был страшно рад, что «клан» нашел себе занятие.
Пять лет Нина Васильевна и Борис Григорьевич почти постоянно жили в Обуховке. Мешала только Лизина учеба. Если бы не Лиза, все было бы проще. Она вообще им мешалась – особенно молодой жене, собственной матери.
Лиза наотрез отказалась от сельской школы, окончила одиннадцать классов и поступила в театральный институт.
С каждым годом надежда Нины Васильевны на самостоятельность таяла. Ленуся и Мишуня купили две однокомнатные квартиры, но не спешили туда переезжать. Григорьич, работая в милиции, в свое время, еще советское, получил от государства комнату. Нина Васильевна быстро продала ее и купила «Волгу», чтобы Григорьич, не дай бог, не убежал.
Теперь он – безработный, бездомный, молодой и довольно красивый человек – был привязан к их клану.
Оставалось только потакать Нине.
Зимой Нина Васильевна и Борис Григорьевич отчаянно ездили по Европам и морям, а с весны до глубокой осени оседали в деревне.
В Обуховке им жилось романтично.
Многие их ровесники и бабки помнили обуховского парня Бориску, поэтому осесть в деревне было легко. Тем более они были молодыми супругами, и проблемы заработать на жизнь не было… Вот разве что опять Лизка, которая росла и красивела на глазах.
Как они, бывшие селяне, встретились в «этой Москве», интересовало абсолютно всех вокруг. Но Нина Васильевна молчала и, таинственно улыбаясь, шептала: это судьба!
И Нине Васильевне это казалось приключением. Она наконец была свободна. Не надо думать о хлебе насущном – заботилась дочь, которую она с рук на руки передала мужу.
Если говорить прямо, «Григорьичем» молодой еще Борис тоже стал по воле жены. Уж очень моложаво он выглядел, потому Нина Васильевна решила его состарить. Борис отпустил бородищу и стал даже дома «Григорьичем». Яркие черные глаза его смотрели через пышные брови, но и эти глаза своенравная Нина Васильевна поспешила сделать чуть помутнее. Она ничуть теперь не боялась, что Григорьич убежит. Ему просто некуда было бежать.
А дальше родной деревни, куда его забросила судьба, вряд ли можно было убежать куда-то еще, с его-то слабым характером.
Лиза пережила эти несколько лет старшей школы и становления новой семьи с душевным скрипом. Притирались домашние тяжело, но должны были неизбежно зажить «долго и счастливо».
Только когда приезжали в деревню, Лизе открывались поле, луг и небеса. Можно было освободиться от духоты квартиры, уходить из дома на весь день в глубину балок, оврагов и долинок или «в берег». Так местные называли край огородов, заросший вербами и тополями, за которыми начинался широкий древний солончаковый луг.
По лугу вилась река, уходящая правым краем в само село, а левым далеко в украинскую лесостепь, где сливалась с Сеймом.
Здесь, в Обуховке, Лиза передружилась с местной малышней и чувствовала себя над ними главной, потому что ровесников почти не было. Тут втрескался в нее сосед Васька, внук согнутой в кочергу носатой бабы Юли.
Лиза и Васька вместе пасли коров, жарили рыбу на прутках, играли в карты в вербах. Но так как он был сумским парубком, гордость не позволяла ему признаться Лизе в любви. Да и для нее был он обычный мелкий пацан.
Еще один обожатель – соседский малолеток Мясушко – познакомил Лизу с девчонками, живущими на хуторе.
Одна из девчонок была родной сестрой Мясушки, и Лиза стала ездить к девчонкам на велике, на улицу, которую в народе называли Мачухивкой. Лизе не нравилось играть с девчонками, гораздо больше нравилось быть пацанкой и оторвой. А девчонки уже женихались и ходили далеко на остановку, где их цепляли любимовские парни.
Так повелось, что любимовские всегда дрались с обуховцами и женились на местных девках. Обуховцы дрались со снагостскими, а антоновские вообще со всеми. Выйти замуж за антоновского было позором для девчонок из других сел. Все антоновцы были как на подбор хулиганы, их даже в райцентре боялись. Но к тому времени, как заневестилась Лиза, антоновцы сильно потеряли авторитет перед райцентром.
Увы, эта дружба с девчонками длилась недолго: обе подружки с Мачухивки в восемнадцать лет выскочили замуж, как им и полагалось.
В общем, Лиза неохотно уезжала из Обуховки, где все стало уже родным. И даже противный Васька.
Итак, попрощавшись с Обуховкой, Лиза и Нина Васильевна собрали и упаковали пожитки. А Григорьич посадил огород: не стоять же земле.
В тот год Лизе исполнилось девятнадцать.
Ленусь и Мишуня продолжали давать деньги на жизнь семье. Лиза училась днями напролет, возвращалась поздно, влюбилась в однокурсника Фильку – светловолосого красавца, игравшего всех героев-любовников и Костю Треплева в Чайке.
Ничего удивительного не произошло и на исходе второго курса. Только преподаватель актерского мастерства вдруг стал недвусмысленно намекать Лизе стать ближе к искусству. В его лице.
Лиза ничего не понимала (что хочет этот старый бородатый дядька с пропитым голосом?), пока не получила предложение, от которого невозможно отказаться. И не смогла себя пересилить. Презренный «старческий задор» преподавателя потряс ее до глубины души, и она бежала, бросив документы и однокурсников.
Ленусь, услышав эту историю, сказала:
– Или учись давать кому надо, или сиди в заднице. Если бы у него были деньги, то ладно. Но он бедный!
– Он доцент!
Ленусь в своем кругу никогда не слышала такого слова. Из юных манекенщиц она сразу стала женой мелкого, но успешного пацана из ОПГ. Поэтому сказала:
– Фу! Хорошо, что не процент!
Решено было бросить театральный и не плакать по нему.
Лиза, глядя на полную блатной романтики житуху сестры, жалела, что младше на целых десять лет. Что к тому времени, как она «расцвела», пацанов начали активно отстреливать в разборках, а те, кто был поумнее, затихарился или купил себе теплое место во власти.
Да и нельзя было показывать Лизу авторитетам. Пропала бы… А главное, Ленуся не терпела конкуренток. И не пережила бы, если бы Лиза нашла себе жениха богаче.
После досадного происшествия на учебе Лизу тут же собрали и повезли в деревню на отдых. Было начало апреля, и по пути из Москвы Григорьич повернул в лес, – чтобы посмотреть на Антоново, о котором столько слышал от Нины Васильевны, но никогда не бывал. Да, родина… Нина Васильевна вышла у магазина, увидала старых одноклассников, разговорилась с ними и расплакалась… Неожиданно ей захотелось вернуться. Да и на Боровке, как оказалось, вертолетчик Шурка продавал дом.
И Нина Васильевна взвилась:
– Мы должны купить этот дом! Он был нашим!
И добрый, умный Мишуня тут же отстегнул денег.
Понятно, что Мишуней руководила доброта. Но не только. Ничто Нине Васильевне теперь не мешало жить за молодым мужем как за каменной стеной, получать пособие от старшей и растить младшую. Хотя да – младшую надо было срочно выдать замуж, потому что Лизка «вошла в возраст» – даже Григорьич засматривался на нее…
Замуж. Желательно поскорее.
Конечно, на самом деле Мишуня был не так уж и щедр. Он купил дом, чтобы Нина Васильевна и Григорьич уехали туда насовсем, оставив квартиру, где им с Ленусей удобно и вольготно жилось. Так-то Мишуне вечно не хватало пары миллионов, чтобы жить «по средствам»: он любил поиграть в карты… А свою недвижимость на окраине столицы сдавал или даже давал там пожить друзьям. Обвинить его в жадности не мог никто.
Нина Васильевна и Григорьич о планах Мишуни не то что не знали – даже не догадывались. Про Лизу вообще никто не думал: ее, как чемоданчик, возили с собой или отправляли куда-нибудь в летние лагеря… Ленусь и Мишуня раздражались Лизиным присутствием и платили за ее «отдых».
Ленуся, недобрая, не в меру эгоистичная и избалованная красавица, взъелась на Лизу после того, как та вылетела из театрального. Это означало, что Лиза в ближайшее время не съедет и будет жить с ними, а еще, чего доброго, забеременеет. Или притащит какого-нибудь молодца в Москву. В их квартиру.
Ленуся стала много ругаться и даже скандалила. Нина Васильевна и Борис Григорьевич не хотели лишаться финансовой помощи, и поэтому, уже в начале апреля, прихватили Лизу и уехали в Обуховку. А оттуда – в более крепкий (не новый, но отремонтированный, с колонкой во дворе) дом в Антонове.
Что им еще надо? Вода во дворе, река, лес.
И Лизке свобода.
Глава третья
Новые люди
Нина Васильевна, Лиза и Григорьич распаковывали коробки, выставляли посуду, трясли подушками и одеялами. Нина Васильевна была довольна. Она уже познакомилась с соседями.
– Там вон, в каменном доме, живет дядька, чуть постарше меня… Максимыч. Фамилия их – только не падай – Отченаш. У них есть две собаки, одна ощенилась, и нам отдадут песика Бимку. Максимыча жена – Фая. Она работает в сельсовете главбухом! Зря ты назвал их идиотами, хорошие люди. Правда, немного странные… Справа – двое детей и родители, за ними – Шура и ее муж. Ну, потом лес… С лесничкой я еще не говорила. Слева от Отченашей тоже какие-то дети, и за ними тоже трое детей.
– А возраст этих детей, мам? – перебила ее Лиза.
– Ах, от десяти до… до… двадцати… В общем, тебе будет с кем мячик погонять.
– Феклуша, бросай куклы, иди замуж…[5] – процитировал Григорьич.
– Сами идите туда, опять тут все вокруг мелкие! – отмахнулась Лиза и шумно чихнула.
– В зависимости от местности слово «главбух» звучит двусмысленно, – добавил Григорьич. – А он кем работает? Максимыч твой?
– Он ведет хозяйство по новаторской системе.
– Слышал. А что там за система?
– Система экспрессивной экономии. Его жена сажает картошку в лыжах.
– Зачем?
– Чтобы экономить землю в междурядье!
– Это как? – роясь в инструментах, спросил Григорьич. – Где мой молоток, женщины?
– У него работник есть, он не один! – гордо сказала Нина Васильевна, выуживая из дамской сумочки молоток. – Вот твой молоток! Так как это самое важное, я его далеко не убирала!
– Тебя я тоже поставлю на лыжи! – радостно сказал Григорьич.
– Один главбух уже наниматься приходил, – сказала Лиза, еще раз чихнув от пыли. – Молодой совсем. Крал тюльпаны в палисаднике, там и поймала его.
Нина Васильевна, бережно обтирая стеклянную конфетницу, фыркнула:
– Ишь, деловые! Ка-а-нешна… москвичи приехали…
– Я думал, народ уже не нанимается. А ты, со своим чуйством юмора, тут не это самое. Не понимают тут твоих приколов, ясно, Лизка? – сказал Григорьич. – Интеллектуалов ни фига тут нет.
– Но я еще не начинала, – хмыкнула Лиза.
– И не надо! Кушать все хотят, – сказал Григорьич. – Может, нам понадобится работник. Тут дел много. У меня же нет сыночка! А, мать?
– И что? – снова фыркнула Нина Васильевна. – Ты и с девками-то не справишься.
Григорьич ударил молотком по деревяхе, и весь дом, казалось, вздрогнул. Лиза зевнула.
– Я пойду спать.
– Иди лучше к соседям. Там девчонка такая, как ты. Познакомишься.
Лиза вспомнила, как мельком видела толстую маленькую девушку, больше похожую на тетку, идущую до колонки с двумя ведрами.
– А, эта, что ли… невеста…
– Чья? – удивилась Нина Васильевна.
– Этого работника, что к нам приходил…
Григорьич ухмыльнулся:
– Бабки обуховские мне говорили, что народ тут гнилой. Говорили, что вы там, в вашем Антонове, будете плакать по нам! Да! И они правы! Все, я уже плачу по бабы-Юлиным пирогам с маком!
Нина Васильевна с презрением посмотрела на мужа.
– Ох, ты! Прям какой городской! Подсыпь мне жменьку* борща! Надень хвартук!* Защэпи хвиртку!* Вы там не по-русски говорите! Хохлы-мазныцы!
– Ой, прям на пятнадцать километров ближе к Ма-аскве!
– А что? У меня квартира, между прочим, мною заработанная!
Григорьич смолк и продолжил работать.
Лиза на своей веранде, лениво разобрав еще несколько коробок с вещами и книгами, переоделась в спортивный костюм и вышла за ворота.
Закат размазал красивую багряную краску по небу, недвижные облака бледнели, но не исчезали. Комары тучами клубились в акациях, и совсем низко по распаренному воздуху носились, треща крылышками, крупные стрекозы, ловя мошку. Где-то вдали, у реки, раздавались странные звуки, словно кто-то опускал трубу в воду и со всей дури дул в нее, извлекая не только бульканье, но и небывалой силы звук.
«Выпь… от слова вопить, – подумала Лиза. – Или выть…»
С кордона, через три дома в сторону леса, где у лесника по прозванью Клоун было большое крепкое хозяйство, протяжно мычали голодные телята. У соседей ругались бабы и гремели ведрами, кидая в них что-то тяжелое – наверное, буряки* для коров. Все как обычно, только скучно…
* * *Утром Лиза проснулась от яркого солнца. Скорее всего, мать и отец уже вышли на огород, а Лизе полагалось поваляться подольше и подумать о своей жизни.
Она погрустила о театральном, вспомнив неприятную ситуацию с окончанием своего обучения. Что ж, значит, ей не хватило таланта. И не только это…
– А если ты пойдешь работать в кино и тебе нужно будет целоваться и раздеваться? – спросил худрук Тимофей Сергеевич, раздраженно подрагивая отвисшей губой. – Откажешься? Какая ты тогда артистка?
Лиза вспомнила свой стыд и мат, который не смогла вынести, и просто не пришла на генеральный прогон курсовой постановки. Она даже не стала забирать документы – так и осталась меж небом и землей, еще ничего не осмыслив. Хорошо, что мать поняла.
– Да на кой тебе эта сцена! Устрою тебя куда-нибудь, связи есть, и будешь работать! – сказала она. – Здоровье дороже.
Оставалось только снова поступить и снова начать учиться. Но в экономический институт на бюджет Лиза не прошла, и теперь ей светило только платное образование. Сестра настаивала на юрфаке.
– Пойду работать… – почти с отчаянием и даже слезой думала Лиза, понимая, что очень любит спать и просто ненавидит быстро собираться.
– Будешь адвокаткой, нас отмазывать! – смеялась Ленуся.
– И зачем на суде прокурор, лучше было бы два адвоката![6] – подпевал Мишуня.
С такими пространными мыслями Лиза услышала чуть слышный шорох по дороге и осторожно, через уже повешенную матерью занавеску, выглянула в маленькое окно. По дороге молодцевато шагал низенький солдатик с кривыми ногами и длинным, отчаянно некрасивым лицом. За спиной болталась потертая спортивная сумка. Он так и чеканил сапогами по белому песку с крапинками гравия.
Эту знаменитую дорогу проложили в девяносто четвертом году, когда в местный заказник приехал поохотиться губернаторский сын и его «паджерики» завязли в местной грязи.
«Идет, ковыляет, дембелек… – подумала Лиза. – Страшноват… Но сосед же… С ним тоже придется дружить».
Она чуть было не засмеялась. Это, наверное, тот, из предпоследнего дома… Сын тетки Шкурки и дядьки Дрона. Из армии вернулся… Тут уже ходили некие отрывочные разговоры, что скоро «Лизке будет весело, мой-то жених».
Сморщенная, хоть и молодая еще, тетя Шура, которую Лиза, большая любительница подмечать характеры, окрестила «Шкуркой», так прямо и лезла с дружбами. Эта древняя схема – «У вас товар – у нас купец» – ей порядком надоела еще в Обуховке, потому что по деревенским меркам Лиза была уже несколько лет как на выданье. Бессчетное количество подкатывающих к москвичке женихов Нина Васильевна опытно разогнала.
Лиза вскочила, натянула джинсы и майку и вылетела из комнаты, не заправив кровать.
– Ма-ам! – протяжно крикнула она с крыльца. – Я пойду за водой!
Все равно ее не слышали, занятые переругиванием и рассадой. Она схватила ведро и вынырнула за калитку, успев проводить взглядом некрасивого солдатика. Тот действительно зашел в ворота тетки Шкурки, и теперь из их двора заслышались прямо-таки мифологические причитания бабки и матери.
Лиза профланировала до колодца, лениво набрала полведра и так же лениво пошла назад, прислушиваясь к новому событию соседей.
* * *Через три дня у ближних соседей Рядых, где жила Лизина ровесница Лелька, с которой Лиза успела уже перекинуться парой слов, праздновали приход из армии старшего сына дядьки Дрона – Мишки Дроныча, гордо называемого теперь Солдатом. Сам виновник торжества уже лыка не вязал, спал в летней кухне. А вот на столе еще все было тепленькое и неразобранное, и тетька Людка, мать Лельки, с тетькой Шкуркой неустанно бегали до колодца, чтобы разводить водой компот.
Лиза наблюдала из-под уличной груши за съезжающимися на мотоциклах и велосипедах гостями, желающими выпить за «дембельнутого».
Прибывшие пропадали во дворе, как в чреве затонувшего корабля, и вываливались оттуда уже с видом кракенов, выжравших все матросское пиво да и, кажется, закусивших матросами.
– Вот кажется мне, шалава она… И вообще, эти все… что с одной стороны – новаторы, что с другой – алкоголики. Не то что наши бабушки в Обуховке, да, Лиз? – рассуждала Нина Васильевна, вышедшая полюбопытствовать за калитку. – А ты тут одна, иди хоть посмотри, кто там.
– Да они все на рогах… проходят мимо. Ничего хорошего не проходит.
– А девчонка та, соседка?
– Лелька-то? Да она там, в доме.
– И что, звала тебя?
– Звала. У нее кликуха Борона. И она уже была замужем и развелась.
– А лет-то ей сколько? – удивленно хлопнула себя по животу Нина Васильевна.
– Двадцать будет, как и мне.
– Вот это да! И что? Ну, я тоже первый раз замуж вышла… в девятнадцать, тут много ума не надо. А ты… не чурайся народа местного, сходи, а то стоишь как во поле береза.
– Да, именно, – сказала Лиза. – И буду стоять.
– Иди, иди, – настойчиво повторила Нина Васильевна.
Лиза вздохнула. Ну конечно, выбрали верный подходящий момент познакомиться со всей молодежью села. Правда, назавтра молодежь и не вспомнит, как ее зовут.
– Пойдешь? Я бутылку водки папкину дам. И там еще шарлотку возьми. Я потом еще спеку.
Лиза укоризненно взглянула на мать и надула губы.
– Не дуйся! – схватив ее за голое плечо, сказала Нина Васильевна. – А то подумают, что ты дикая, нелюдимая. Ну, надо же дружить!
– Надо… – протянула Лиза, вспоминая мелких друзей. – Они все взрослые! Мам… Не то что мои… обуховцы.
– А ты что! Нашлась тоже маленькая! Тебе двадцатый год!
– Я хочу быть птичкой, – ответила Лиза, тряхнув распущенными волосами. – Жар-птичкой.
Нарядов здесь у Лизы не было, поэтому она надела длинный материн сарафан из валютного магазина и каблуки, чтобы не запутаться в нем, подвела глаза стрелками и нарумянила вечно бледные щеки.
У Лизы была неброская внешность: высокий лоб, некрупные черты лица, чуть оттопыренные ушки, которые она скрывала под волосами, тонкие губы и тонкий, немного острый нос, как у матери, но меньше. Лиза дорастила свои огненно-рыжие волосы до пояса, и теперь никто не мог пройти мимо, не посмотрев на нее со смешанными чувствами. Красота ее легко не давалась в руки, ее нужно было разглядеть, как через слои воды. Но поклонников было всегда полно, в основном из-за того, что Лиза много читала и обладала отличной памятью – с ней было интересно поговорить.