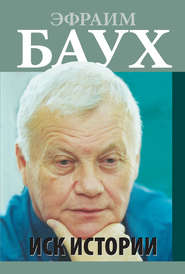По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ницше и нимфы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Никогда я не освящал свое одиночество. Я жаждал плотской любви женщины, которая сможет освободить меня от вселенских проблем, свидетельствующих о смерти Бога.
Лицо мое трудно подается описанию, настолько оно заурядно. Это первое, что бросилось в глаза Августа Стриндберга на моем фото в газете. Лишь усы выделяют мою крестьянскую физиономию, подобную мужицкой физиономии Канта, если снять с него парик. Никогда на свободе, во сне, я не видел себя бредущим среди героев сновидения. Там хаос изображений и лиц разворачивался перед моими глазами лентой. Видеть себя подобием бледной личинки, еще не превратившейся в куколку, чтобы из нее вылупиться, было сверх сил, но еще больше не было сил пробить скорлупу сна, которая во сне оборачивалась застенком.
Во сне меня посещает этот швед, религиозный философ по имени Сведенборг. Он вещает: слова во сне превращаются в образы, точнее, в прообразы и праобразы. Ад и Рай, по Сведенборгу, не запрещен никому. Двери открыты. Мертвецы не догадываются о своей смерти. Грешники лишены лица. У них вместо лица что-то зловещее, изуверское. Однако себя они считают красивыми. Каждую секунду человек готовит себе вечную гибель или вечное спасение.
Всё это, скользившее мимо моего сознания на свободе, к ужасу моему, здесь, даже после пробуждения, выступает истинной сущностью всей моей жизни.
Иногда сон возникает черной дырой ввысь, и в этой мгле внезапно нащупывается ногой лестница, со времен Иакова терпеливо ждущая того, кто споткнется об неё и услышит голоса праотцев, зовущих подняться по ней, ибо ужас сотрясает их при виде мира, подобного колодцу, клокочущему драконами.
Сплошная жуть во сне распластывает тело, и я с трудом выпутываюсь из тенёт сна, ловя ртом воздух.
В начале моего пребывания в этом логове свихнувшихся я едва прикасался к еде, не желал выходить на прогулку, не убирал за собой, не принимал душ, не брился. Парикмахер отказался меня стричь и брить, ибо боялся, что пребывающий словно бы в каталептическом состоянии пациент внезапно выхватит бритву и перережет себе горло.
Я подолгу лежал, уставившись в потолок. Боже мой, какую тоску я испытывал в юности по ночам, глядя на звезды. Потом вообще не успевал смотреть на небо. Потолки моих временных пристанищ были благодатны, ибо уставившись в них, я иногда был осчастливлен удивительными мыслями. Теперь же я вижу лишь серый, мертвый потолок, вызывающий тошноту своей асимметричностью. Даже окно устроено в палате так, что звезд почти не видно. Лишь жадный взгляд иногда различает блёклую полоску света, несомненно, – лунного.
В этом безжизненном затоне время бежит не по привычному кругу циферблата, а по прямоугольнику догоняющих друг друга и не сдвигающихся с места четырех стен. В этом прямоугольном времени память открывает самые сокровенные шевеления души.
Провожу рукой по волосам. Они стоят, как наэлектризованные, что называется – дыбом.
12
Снится: меня волокут на операционный стол.
Я кричу, как загнанный заяц, ослепленный сиянием операционных ламп: как же? Я совершенно здоров. Во мне еще столько нерастраченных сил. Об одном лишь прошу – дайте мне их истратить.
Проснулся. Показалось, Лу склонилась надо мной: тебе что-то плохое приснилось? В темноте ясно, спасительно проступает ее такое родное лицо.
В этой юдоли скорби легко слиться с любым существом – будь то Наполеон, Шопенгауэр, или даже – отвергнутый мной Бог.
Из потайных извилин памяти четко возникает нечто, начисто забытое, пугая тем, что оно было затаено во мне, как заряд динамита, который в любой миг может превратить меня в прах, а я этого не знал: ведут меня долгим, нескончаемым тоннелем. Кажется, я жив, но такую пытку медленного движения к свету в конце тоннеля невозможно выдержать. Я теряю сознание и, приходя в себя, ударяюсь о стены, неровные, с неожиданными выступами. Я весь в ссадинах, спотыкаюсь, падаю, но неумолимые руки или клешни ведущих меня не дают ни на миг остановиться. Слабый зеленоватый свет, подобный лунному свечению в пустыне ночи, выявляет восковую податливость и скрытую мертвизну свежих молодых покачивающихся лиц моих конвоиров в белых халатах, хотя выправка у них военная. И они подобны муляжам в музее восковых фигур. Пугает ощущение нереальности.
Не так ли ведут дорогами мертвого мира, и движение это становится новой формой моего существования в потустороннем мире? Я пытаюсь нарушить окаменелость ведущих меня фигур, протягиваю руку в сторону и натыкаюсь на восковую ладонь, обнаруживающую внутри тупую, как обух, твердость.
Я уже во сне понимаю, что всё это мне снится, но не могу выпутаться из липкой паутины сна.
Внезапна мысль, что, подобно пытке дыбой, распятием, электрошоком, водой и огнем, есть пытка движением.
Я просыпаюсь, попадая в новый сон, пропадая в нём, ожидая, как спасения, звука открывающейся двери, но она недвижна, как нарисованная Микеланджело дверь в гробнице Медичи во Флоренции, за которой я, Фридрих-Вильгельм, был заживо погребён.
При свете дня ночной бесконечный коридор оказывается совсем коротким. Такая глупость: он, что, при свете сокращается? Или это предчувствие приближающегося приступа?
Приходит мысль – "Воображение обладает своим центром тяжести. Когда же сдвигается центр тяжести души, человек теряет умение и чувство – отличать добро от зла. А ведь человек – мера времени, и на уровне существования его не сдвинешь, чтобы не сотрясти окружающую реальность, в глубине которой иное соотношение прошлого, настоящего и будущего. Сама материя времени смущаема и смещаема не в физическом понимании сжатия и расширения, зависящего от скорости, а в экзистенциальном ощущении медленно тянущегося времени страха и депрессии в палате умалишенных.
Но лучше ли проживание на воле, в быстро несущемся времени, в эйфории, чаще всего не оправданной?
Все беды в мире людей происходят от нарциссизма, от скрытого любования самим собой, от отсутствия чувства реальности, от длительной безнаказанности, которая рождает уверенность во вседозволенности».
Мои книги раскроют глаза человечеству, – это говорю я, Фридрих-Вильгельм. – Потрясению не будет предела.
Но о чем это говорит и почему это потрясает?
И что это даст мне, автору, кроме потрясения человеческой глупостью, и странной печали от чувства сладкой мести по ту сторону жизни?
Неужели слава человеческая – пустой звук, но желание ее – ненасытно?
Только Бог мог надиктовать Моисею Книгу, заранее зная неисповедимость путей ее возникновения до Сотворения мира, как предварительного его плана, без которого мир этот никогда не выберется из первобытного хаоса.
Только Он предвидел непрекращающийся спор о вечности и неистребимости Книги.
Во сне меня посетил Петер, и я говорил ему: пусть тебя не смущает, что иногда, сам того не замечая, я говорю о себе в "третьем лице". Рассказывая и думая о себе, я словно вижу себя и всю свою жизнь, да и все свои труды, со стороны – в явно грязном, с ржавыми подтеками, словно облеванном зеркале в незнакомом вначале, но явно угрожающем месте, – моей палате?
Кто же я – истинный? – ich bin, do bist, er ist…
Потрясает эта явно безумная легкость перескакивания с "я" на "ты" и "он" в обращении к самому себе.
Но пусть у тебя, дорогой Петер, не вызывает удивление то, что я буду относиться к себе то в первом, то во втором, то в третьем лице, как Он. Подобно Ему, говоря впрямую, одновременно вижу себя со стороны. Этот двойной или тройной фокус, в котором я узнавал и не узнавал себя, всегда не давал мне покоя. Это было Его сущностью. Ему не мешало, к примеру, явиться Мухаммеду в первом лице. Меня же это свело с ума.
Знаешь, особенно мне тяжело с наступлением весны. За окном наплывает солнечным таянием месяц март. Может ли быть что-либо страшнее для человеческого существа, чем этот одуряющий запах жизни, просачивающийся сквозь законопаченные окна дома умалишенных без всякой надежды – выбраться, которая дана даже узнику.
А тут еще Мама является, когда после обеда, по обыкновению, я сажусь за рояль.
Продолжаю играть, как бы ее не видя и зная, что в музыке она весьма несведуща.
Она помалкивает, и я смягчаюсь, принимая ее молчание за деликатность по отношению ко мне. Только к вечеру, когда мне, честно признаться, слегка надоело ее присутствие, она спрашивает, что я играл. Отвечаю: "Опус 31 в трех частях Людвига ван Бетховена". И эта старая дура в письме к Францу Овербеку, священнику и любимому моему другу, потрясенно сообщает о моей столь осмысленной игре, что ей кажется, – я все же мыслю. Вряд ли она знает, что повторяет начало слов Декарта: я мыслю, значит, существую.
Кажется, она весьма рискует, собираясь забрать меня домой, в Наумбург, под расписку, ибо, хотя колеблется, но все же рассчитывает на скорое мое выздоровление. Хорошо еще, что в доме она одна. Сестрица собирается вернуться из Парагвая лишь осенью.
13
Я ненавижу себя, прежнего, размышляющего в домашнем халате, как Гегель в ночном колпаке. Если Сократ выпил яд за свои убеждения, то я все время зациклен на своем здоровье, но мне это не помогает.
Чтобы преодолеть смертельную дозу глубокомыслия, я бросаюсь в пляс, называя его "веселой наукой". Но этот перепад оборачивается не спасением, а приступом на грани безумия, предвещающим полный уход с редкими просветлениями – в безумие, на радость ограниченным эскулапам.
Меня, как пуповину, обвивающую удушающими путами, изводит сложнейший психологический клубок круговоротов душ в моей книге "Человеческое, слишком человеческое". Но мне уже не дано переписать эту книгу заново.
Вне зависимости от того, останутся мои книги или не останутся, присутствие мое в этом мире обречено быть обозначенным сотворением текста. Пишешь – существуешь. Я знаю, что все это будет выброшено, замызгано, растоптано животными, по ошибке называемыми людьми. Но мне это назначено, и долг неукоснительно несет меня к гибели.
14
Настоящее не подлинно, ибо мгновенно переводит будущее в прошлое.
Авторитет текста строится ступенчато во времени, опираясь на другие тексты, которые уже обрели авторитет.
Опасность в том, что часто авторитет заменяет и подменяет истину.
Разве художественное произведение не является полем, где сталкиваются три противоборствующие силы: намерение автора, понимание читателя и сама структура текста.
Противоречивость человеческого сознания – главное действующее лицо мировой истории и культуры.
Лицо мое трудно подается описанию, настолько оно заурядно. Это первое, что бросилось в глаза Августа Стриндберга на моем фото в газете. Лишь усы выделяют мою крестьянскую физиономию, подобную мужицкой физиономии Канта, если снять с него парик. Никогда на свободе, во сне, я не видел себя бредущим среди героев сновидения. Там хаос изображений и лиц разворачивался перед моими глазами лентой. Видеть себя подобием бледной личинки, еще не превратившейся в куколку, чтобы из нее вылупиться, было сверх сил, но еще больше не было сил пробить скорлупу сна, которая во сне оборачивалась застенком.
Во сне меня посещает этот швед, религиозный философ по имени Сведенборг. Он вещает: слова во сне превращаются в образы, точнее, в прообразы и праобразы. Ад и Рай, по Сведенборгу, не запрещен никому. Двери открыты. Мертвецы не догадываются о своей смерти. Грешники лишены лица. У них вместо лица что-то зловещее, изуверское. Однако себя они считают красивыми. Каждую секунду человек готовит себе вечную гибель или вечное спасение.
Всё это, скользившее мимо моего сознания на свободе, к ужасу моему, здесь, даже после пробуждения, выступает истинной сущностью всей моей жизни.
Иногда сон возникает черной дырой ввысь, и в этой мгле внезапно нащупывается ногой лестница, со времен Иакова терпеливо ждущая того, кто споткнется об неё и услышит голоса праотцев, зовущих подняться по ней, ибо ужас сотрясает их при виде мира, подобного колодцу, клокочущему драконами.
Сплошная жуть во сне распластывает тело, и я с трудом выпутываюсь из тенёт сна, ловя ртом воздух.
В начале моего пребывания в этом логове свихнувшихся я едва прикасался к еде, не желал выходить на прогулку, не убирал за собой, не принимал душ, не брился. Парикмахер отказался меня стричь и брить, ибо боялся, что пребывающий словно бы в каталептическом состоянии пациент внезапно выхватит бритву и перережет себе горло.
Я подолгу лежал, уставившись в потолок. Боже мой, какую тоску я испытывал в юности по ночам, глядя на звезды. Потом вообще не успевал смотреть на небо. Потолки моих временных пристанищ были благодатны, ибо уставившись в них, я иногда был осчастливлен удивительными мыслями. Теперь же я вижу лишь серый, мертвый потолок, вызывающий тошноту своей асимметричностью. Даже окно устроено в палате так, что звезд почти не видно. Лишь жадный взгляд иногда различает блёклую полоску света, несомненно, – лунного.
В этом безжизненном затоне время бежит не по привычному кругу циферблата, а по прямоугольнику догоняющих друг друга и не сдвигающихся с места четырех стен. В этом прямоугольном времени память открывает самые сокровенные шевеления души.
Провожу рукой по волосам. Они стоят, как наэлектризованные, что называется – дыбом.
12
Снится: меня волокут на операционный стол.
Я кричу, как загнанный заяц, ослепленный сиянием операционных ламп: как же? Я совершенно здоров. Во мне еще столько нерастраченных сил. Об одном лишь прошу – дайте мне их истратить.
Проснулся. Показалось, Лу склонилась надо мной: тебе что-то плохое приснилось? В темноте ясно, спасительно проступает ее такое родное лицо.
В этой юдоли скорби легко слиться с любым существом – будь то Наполеон, Шопенгауэр, или даже – отвергнутый мной Бог.
Из потайных извилин памяти четко возникает нечто, начисто забытое, пугая тем, что оно было затаено во мне, как заряд динамита, который в любой миг может превратить меня в прах, а я этого не знал: ведут меня долгим, нескончаемым тоннелем. Кажется, я жив, но такую пытку медленного движения к свету в конце тоннеля невозможно выдержать. Я теряю сознание и, приходя в себя, ударяюсь о стены, неровные, с неожиданными выступами. Я весь в ссадинах, спотыкаюсь, падаю, но неумолимые руки или клешни ведущих меня не дают ни на миг остановиться. Слабый зеленоватый свет, подобный лунному свечению в пустыне ночи, выявляет восковую податливость и скрытую мертвизну свежих молодых покачивающихся лиц моих конвоиров в белых халатах, хотя выправка у них военная. И они подобны муляжам в музее восковых фигур. Пугает ощущение нереальности.
Не так ли ведут дорогами мертвого мира, и движение это становится новой формой моего существования в потустороннем мире? Я пытаюсь нарушить окаменелость ведущих меня фигур, протягиваю руку в сторону и натыкаюсь на восковую ладонь, обнаруживающую внутри тупую, как обух, твердость.
Я уже во сне понимаю, что всё это мне снится, но не могу выпутаться из липкой паутины сна.
Внезапна мысль, что, подобно пытке дыбой, распятием, электрошоком, водой и огнем, есть пытка движением.
Я просыпаюсь, попадая в новый сон, пропадая в нём, ожидая, как спасения, звука открывающейся двери, но она недвижна, как нарисованная Микеланджело дверь в гробнице Медичи во Флоренции, за которой я, Фридрих-Вильгельм, был заживо погребён.
При свете дня ночной бесконечный коридор оказывается совсем коротким. Такая глупость: он, что, при свете сокращается? Или это предчувствие приближающегося приступа?
Приходит мысль – "Воображение обладает своим центром тяжести. Когда же сдвигается центр тяжести души, человек теряет умение и чувство – отличать добро от зла. А ведь человек – мера времени, и на уровне существования его не сдвинешь, чтобы не сотрясти окружающую реальность, в глубине которой иное соотношение прошлого, настоящего и будущего. Сама материя времени смущаема и смещаема не в физическом понимании сжатия и расширения, зависящего от скорости, а в экзистенциальном ощущении медленно тянущегося времени страха и депрессии в палате умалишенных.
Но лучше ли проживание на воле, в быстро несущемся времени, в эйфории, чаще всего не оправданной?
Все беды в мире людей происходят от нарциссизма, от скрытого любования самим собой, от отсутствия чувства реальности, от длительной безнаказанности, которая рождает уверенность во вседозволенности».
Мои книги раскроют глаза человечеству, – это говорю я, Фридрих-Вильгельм. – Потрясению не будет предела.
Но о чем это говорит и почему это потрясает?
И что это даст мне, автору, кроме потрясения человеческой глупостью, и странной печали от чувства сладкой мести по ту сторону жизни?
Неужели слава человеческая – пустой звук, но желание ее – ненасытно?
Только Бог мог надиктовать Моисею Книгу, заранее зная неисповедимость путей ее возникновения до Сотворения мира, как предварительного его плана, без которого мир этот никогда не выберется из первобытного хаоса.
Только Он предвидел непрекращающийся спор о вечности и неистребимости Книги.
Во сне меня посетил Петер, и я говорил ему: пусть тебя не смущает, что иногда, сам того не замечая, я говорю о себе в "третьем лице". Рассказывая и думая о себе, я словно вижу себя и всю свою жизнь, да и все свои труды, со стороны – в явно грязном, с ржавыми подтеками, словно облеванном зеркале в незнакомом вначале, но явно угрожающем месте, – моей палате?
Кто же я – истинный? – ich bin, do bist, er ist…
Потрясает эта явно безумная легкость перескакивания с "я" на "ты" и "он" в обращении к самому себе.
Но пусть у тебя, дорогой Петер, не вызывает удивление то, что я буду относиться к себе то в первом, то во втором, то в третьем лице, как Он. Подобно Ему, говоря впрямую, одновременно вижу себя со стороны. Этот двойной или тройной фокус, в котором я узнавал и не узнавал себя, всегда не давал мне покоя. Это было Его сущностью. Ему не мешало, к примеру, явиться Мухаммеду в первом лице. Меня же это свело с ума.
Знаешь, особенно мне тяжело с наступлением весны. За окном наплывает солнечным таянием месяц март. Может ли быть что-либо страшнее для человеческого существа, чем этот одуряющий запах жизни, просачивающийся сквозь законопаченные окна дома умалишенных без всякой надежды – выбраться, которая дана даже узнику.
А тут еще Мама является, когда после обеда, по обыкновению, я сажусь за рояль.
Продолжаю играть, как бы ее не видя и зная, что в музыке она весьма несведуща.
Она помалкивает, и я смягчаюсь, принимая ее молчание за деликатность по отношению ко мне. Только к вечеру, когда мне, честно признаться, слегка надоело ее присутствие, она спрашивает, что я играл. Отвечаю: "Опус 31 в трех частях Людвига ван Бетховена". И эта старая дура в письме к Францу Овербеку, священнику и любимому моему другу, потрясенно сообщает о моей столь осмысленной игре, что ей кажется, – я все же мыслю. Вряд ли она знает, что повторяет начало слов Декарта: я мыслю, значит, существую.
Кажется, она весьма рискует, собираясь забрать меня домой, в Наумбург, под расписку, ибо, хотя колеблется, но все же рассчитывает на скорое мое выздоровление. Хорошо еще, что в доме она одна. Сестрица собирается вернуться из Парагвая лишь осенью.
13
Я ненавижу себя, прежнего, размышляющего в домашнем халате, как Гегель в ночном колпаке. Если Сократ выпил яд за свои убеждения, то я все время зациклен на своем здоровье, но мне это не помогает.
Чтобы преодолеть смертельную дозу глубокомыслия, я бросаюсь в пляс, называя его "веселой наукой". Но этот перепад оборачивается не спасением, а приступом на грани безумия, предвещающим полный уход с редкими просветлениями – в безумие, на радость ограниченным эскулапам.
Меня, как пуповину, обвивающую удушающими путами, изводит сложнейший психологический клубок круговоротов душ в моей книге "Человеческое, слишком человеческое". Но мне уже не дано переписать эту книгу заново.
Вне зависимости от того, останутся мои книги или не останутся, присутствие мое в этом мире обречено быть обозначенным сотворением текста. Пишешь – существуешь. Я знаю, что все это будет выброшено, замызгано, растоптано животными, по ошибке называемыми людьми. Но мне это назначено, и долг неукоснительно несет меня к гибели.
14
Настоящее не подлинно, ибо мгновенно переводит будущее в прошлое.
Авторитет текста строится ступенчато во времени, опираясь на другие тексты, которые уже обрели авторитет.
Опасность в том, что часто авторитет заменяет и подменяет истину.
Разве художественное произведение не является полем, где сталкиваются три противоборствующие силы: намерение автора, понимание читателя и сама структура текста.
Противоречивость человеческого сознания – главное действующее лицо мировой истории и культуры.