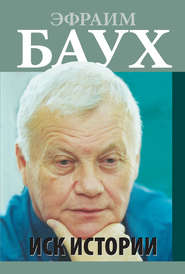По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Завеса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Генерал, чисто выбритый, в легкой рубахе, то и дело отирал пот с еще весьма молодой лысины, в то время как одетый в черный плотный костюм и черную шляпу, весь как бы погруженный в собственную черную бороду Берг не испытывал даже малейшего неудобства от жары. Разговор был странный, понятный лишь им двоим, касался некого Цигеля, дальнего родственника Берга, в семьдесят седьмом приехавшего из Вильнюса.
В тот же день, часом позже, в предвкушении субботнего отдыха, Цигель возвращался с базы военно-воздушных сил Тель-Ноф, где работал в отделе контроля измерительных приборов.
В 18.30 – Цигель успел заметить время на циферблате приборной доски автомобиля – на тесной, забитой народом, улице Ротшильда в городе Ришон-Ле-Цион, он был остановлен полицейским, проверяющим водительские права. Полицейский попросил Цигеля выйти из машины. Водители других остановленных машин оставались в кабинах. Когда Цигель вернулся в машину, там сидели два незнакомых, молодых, очень вежливых человека. Они попросили Цигеля следовать по дороге, которую они ему укажут.
Примерно, через три месяца Орман, слушая во время вождения новости радиостанции «Бет», потрясенно остановил машину у Дома журналистов по улице Каплан, 4, в центре Тель-Авива. В новостях сообщалось, что некий Цигель, репатриировавшийся из Вильнюса в 1977 году, будучи резидентом шпионской сети, работавшей многие годы в пользу СССР, а затем – России, осужден на восемнадцать лет тюремного заключения.
Совсем не к месту или весьма к месту вспомнился одесский анекдот: стучат в дверь: «У вас продают кровать?» Из-за двери отвечают: «Вы к шпиону? Он живет этажом выше».
Цигель жил двумя этажами выше Ормана.
Столь внезапное и стремительное развитие событий подвело черту под знакомством, сближением, неприятием, спорами и суждениями трех этих людей, каждый из которых без труда тянет на главного героя романа.
Автору нелегко в одном романе справиться в равной степени с тремя столь необычными личностями. И все же автор видит в пересечении линий судьбы трех этих человек, где глубине нравственного падения противостоит высота верности высшему Началу, потрясшую его, самого автора, духовную карту проживаемого им пространства и времени.
Карта перекрывает две трети двадцатого века и начало третьего тысячелетия.
Размышления автора на пороге нового тысячелетия
В такой день, на пороге нового века и нового тысячелетия, мы потрясенно ощущаем, что нет большей условности и большей реальности, чем время.
Обычный счет выступает знаком нашей судьбы.
В такой день, на пороге нового тысячелетия, ощущаешь, что жизнь от мгновения ока до вечности выразима лишь искусством и любовью.
Это – два крыла жизненной тайны.
Конец столетия или тысячелетия вводит человечество в транс.
Ужасающие пророчества носились в словно бы сгустившемся воздухе времени, приближающемся к двухтысячному году: тяжкие шестерни трех девяток – 999 – надсадно проворачивали последние дни года, чтоб внезапно с космической невесомостью повиснуть в нулевом пространстве двухтысячного.
В одиннадцатом часу последнего дня второго тысячелетия сижу на берегу Средиземного моря. За спиной во всю вращает свои шестерни, колеса, магазинные кассы, печатные станки, биржевые акции, женскую болтовню по сотовой связи, спутники высоко в космосе, огромный город, романтически названный кучкой людей, заложивших первый камень в это необозримое песчаное поле в начале прошедшего века, «холмом весны», Тель-Авив, вылупившийся заново из ядра высоких технологий, как и вся страна Израиль, маленькая, но подобная пяте Всевышнего, да простят меня верующие за такой человеческий образ.
Сюда, на берег моря, шум огромного города не долетает.
Здесь солнечно и тихо.
Мотыльково белеет парус одинокий.
Голубизна всепоглощающа.
Провалился в небытие диковинный феномен с еще более диковинным названием «советская власть», заполнивший нишу времени десятками миллионов невинных жертв, расстрелянных, умерших от голода, едва засыпанных землей в вечной мерзлоте. Как будто его и не было.
Самое большое чудо, что посреди той всеобщей гибели я остался жив.
В одиннадцатом часу дня на декабрьском солнце ослепительна синь моря.
Два мира, сливаясь в слуховых извилинах, несут мою голову на плоском блюде пространства. Мир города, вращающего во всю все свои колеса так, что слышен треск разрываемой ткани мировой жизни, и мир рыбаков на скалах, мир парусников, погруженных в тишину, очарованных далью.
И все лучшее в нас обращено в это очарованное самим собой пространство.
Израиль
31 декабря 2000
ОРМАН
Ночь на пороге третьего тысячелетия
Последние часы второго тысячелетия беззвучно ослепительными цифрами таяли в сумерках над высотными зданиями «Центра Азриэли» в Тель-Авиве. Орман шел к морю в плотно обступающей его толпе, с необычной торопливостью ползущей во всех направлениях. И внезапно замер.
Два дворника, сдвинув тележки, на одной из которых горел фонарик, почти прижались друг к другу лбами, не обращая внимания на обтекающую их человеческую массу. В слепом движении, лишь изредка поглядывая на меняющиеся в небе цифры, толпа не обращала на них никакого внимания.
Только острый слух Ормана уловил нечто: они пели, тихо, запойно, прикрыв глаза, в два голоса – «На речке, на речке, на том бережочке, мыла Марусенька белыя ножки…» Оба были стары. Один по-славянски курнос. Другого выдавала горбинка и печальные еврейские глаза.
Где эта речка с нависшими над нею кустами отцветающей сирени из его, Ормана, юности? А вот же, держала этих двух вместе среди бесконечной чуждости окружающего их мира.
Давно не опахивало Ормана такой неизбывной тоской человеческих душ.
Дошел до моря. Присел на скамью. Гигантский город готовился проводить второе тысячелетие. У моря было темно и тихо.
Этакая уютная печаль колыхала душу.
Странные мысли приходили в голову Орману в эти, казалось ему, почти не сдвигающиеся минуты, ибо ощущались невероятно тяжелыми, несущими на себе весь груз отходящих в прошлое двух тысяч лет.
Он думал о том, что с первыми проблесками человеческого сознания, еще, быть может, с трудом отличающего явь от сна, в нем уже присутствует метафизическая мера мира и, честно говоря, без этой меры мир был бы смертельно скучен.
Не произведение вещи, а изведение вещи из Ничто, из хаоса – вот, по сути, спасение мира, подспудно жаждущего в каждый миг блаженно раствориться в этом хаосе.
Говорил же Орман соседу своему по дому Цигелю:
– Только подумать: три тысячелетия здесь ни одна вещь не безродна. Вникни.
– Лучше вспомни Салтыкова-Щедрина: не вникай. – Ответил, в общем-то, не отличающийся красноречием Цигель. – А то один не вникал, не вникал, а один раз вник – и повесился.
Видно то, что высказал Орман, чем-то сильно его задело.
За дело?
Орман вдруг вспомнил о Цигеле, уже столько лет сидящем в тюрьме.
Обещал ему и давно, хотя время в тюрьме не имеет измерения, передать через его жену книгу Набокова «Приглашение на казнь». Надо бы это сделать.
Покой и тишина у моря погружали в приятную дремоту.
Хорош ли это знак на грани вступления в третье тысячелетие?
Запретная страсть страха