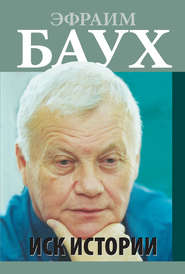По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
За миг до падения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Осталось последнее место в Караганду. Или в Крым.
– Ну, раз последнее, то, конечно, в Крым – расписываюсь и выхожу вон.
Вместе с последующими днями, расходясь все шире, словно круги по воде, слухи уже качают весь университет: кто-то знающий кому-то передал, даже сам слышал, как во время распределения звонили из органов, дали наказ: ни в коем случае не оставлять меня не в аспирантуре, а вообще послать как можно подальше.
Наказ как наказание: за то, что, ничтожная шавка, да еще еврей, проявил непокорность. Не пожелал сотрудничать, душу, видите ли, решил спасти, органы, понимаете ли, за нос вести – в прах его велено растереть казначеями праха – казначеями страха.
Мне еще пару недель торчать в общежитии: хожу загорать на озеро, лежу на койке до полуночи, почитываю. Ходят ко мне всякие знакомые незнакомые, соболезнование выражают, возмущаются, а я помалкиваю. Выхожу их провожать, чтобы сбежать от всех, укрыться в каком-нибудь пустынном скверике, так остро ощущая атмосферу выброшенности, предательства ректором, злорадства недругов. Говорят, страх – это неведение. Здесь же нарочито пестуемое неведение – единственное спасение от страха, хотя и оно в своем наивном выражении воспринимается казначеями страха как уловка.
Этот феномен, скорее личностно-психологический, становится выражением времени, в котором я родился и волею судьбы должен буду жить.
Разговоры, сплетни, байки вокруг меня не умолкают, я ощущаю, что так просто это пройти не может, и я вскакиваю по ночам при визге автомобильных тормозов за окном, как при звуке защелкивающейся западни. Они не торопятся и вместе мы знаем, что мне не уйти.
Вахтерша зовет меня к телефону. Говорит управляющий студенческим городком, старый стукач Кузьмин: с тобой тут один человек поговорить хочет, зайди ко мне в контору.
Я-то ведь знаю, кто этот человек, мышь, вошь, я спрашиваю:
– Кто же это хочет поговорить со мной так сильно? Я ведь уже не здешний. Слышь, Кузьмин, – я стараюсь быть нарочито грубым, – скажи ему, если он хочет поговорить, пусть и придет ко мне в комнату, я ведь уже молодой специалист, мне уже не к лицу бегать куда-то с кем-то на встречи.
Кладу трубку.
На следующий день снова звонок.
– Ты не придуривайся, – ласково говорит Кузьмин, – это тебе может дорого обойтись. Он тебя ждет.
– Нечего мне у тебя делать. И вообще я в общежитии уже не живу, сегодня же ноги моей здесь не будет.
Минут через пятнадцать стук в дверь.
– Вас там ждут в фойе, – испуганно говорит вахтерша: верно, удостоверение ей показал.
Как же, вот и он собственной персоной, Казанков, всем проходящим так любезно и наперед улыбается, всем кивает, мне вполголоса:
– А ну, пошли, сука.
За углом, как полагается, машина, "Победа", окна прикрыты кокетливыми занавесками, задняя дверь предупредительно распахнута.
Сажусь, Казанков бросает свое грузное тело рядом с немой мумией шофера, и машина как бы сама собой трогается с места, Казанков начинает гнусно орать, брызгая слюной:
– Ты что, падла, с органами решил играть в кошки-мышки? Сильно умным стал, твою мать? Было бы это годика три назад, я б тебе показал кузькину мать, сука.
– Повезло мне, что это не три года назад.
– Заткни хайло, молодой специалист. Я б тебя не в Крым, в Магадан бы загнал.
Стараюсь не слушать этого маразматика, поглядываю в щель занавески, а душа заледенела: интересно, думаю, мама или бабушка предчувствуют, куда меня везут в эти минуты.
Вот и городской планетарий – в помещении бывшей церкви – почти соединяется со зданием КГБ. А что? Телескопы – вполне подведомственные органам инструменты: вести слежку за Вселенной – звезды да планеты эти ведь явно элемент ненадежный.
Распахиваются ворота.
Вот и каменный лабиринт, пророчески приснившийся мне совсем недавно, внутренняя тюрьма с огромной снарядной гильзой вместо гонга, галерея вдоль стен, чьи-то стертые жестоко-бесстрастные лица, окна, окна, забранные решетками, клетушки да клетушки кабинетов, зияющие мертвыми сотами за стеклами, внутренний коридор, двери, двери, комната. Сидит за столом Дыбня, постукивает пальцами, а Казанков так еще рта не закрыл, все еще брызжет злостью.
– Скажите ему, чтобы он закрыл рот. Иначе я рта не раскрою.
– Замолчите, – говорит Дыбня.
Приказ есть приказ.
– Вы что же, – обращается Дыбня ко мне, – слухи распускаете, мол, из-за органов вас в Крым выслали, а в аспирантуре не оставили. Знаете, что у нас полагается за клевету?
Сразу стало легче дышать, отлегло на душе: я ведь твердо знаю, никому ничего не говорил. Все вокруг трепались, а я – нет. Гляди-ка, гляди, времена-то как изменились: органы заботятся о своей репутации.
– Ничего такого не говорил. Мало ли кто да что треплется. Если не верите, я потребую очную ставку с любым, кто утверждает, что я ему это говорил.
– И кто это вам сказал, что вас в аспирантуре собираются оставить, – уже более мирно говорит Дыбня, – все это слухи да сплетни, а вы уши развесили. Вы свободны.
– Товарищ подполковник.
– Ну, чего еще?
– Пропуск забыли. На выход.
Молниеносный росчерк пера.
С пропуском. Сам. Сквозь вертеп, откуда раньше редко кто выходил, иду к двери, и никогда после так остро я не буду ощущать собственное существование как подарок. Часовой у дверей изучает пропуск, берет под козырёк:
– Проходите! И с этим напутствием я выхожу в жизнь.
Крым
В наши дни, когда о Крыме судачат круглые сутки, он вновь огромно вторгается в мою жизнь как одна из главных реальных незабываемых вершин моей долгой жизни, окутанных дымкой молодости, наравне с пребыванием через много лет во Флоренции, в лоне "Божественной комедии" Данте Буоннаротти.
В июне пятьдесят седьмого, вместе с однокурсником Игнатом, мы вдвоем едем на преддипломную геологическую практику в горы Крыма.
Доехали до Одессы. На автобусной станции уйма народа. Ведем переговоры с водителем битком набитого автобуса на Херсон: возьмет – не возьмет. Соглашается. Впервые пересекаем Николаев. Пешком, за автобусом, идем через длинный мост на плаву. По обеим сторонам моста, в речных водах, на уровне наших ног, качаются арбузные корки. На херсонском вокзале странно звучат в устах замотанных, плохо одетых крестьян названия станций – Пантикапея, Джанкой, Бахчисарай. К нам лепится какой-то шустрый толстяк в соломенной шляпе, сандалиях на босу ногу с чемоданчиком, полным воблы, который он то и дело открывает, соблазняя нас. Втроем, до прихода поезда Москва-Симферополь, заваливаемся в пивную. Толстяк полон, как арбуз семечек, всяческих южных прибауток и анекдотов, рад слушателям, сыплет ими с каким-то сочным удовольствием. В Херсоне садимся на поезд. В окне вагона плывет прекрасный черноморский закат на фоне тонкого девичьего профиля. Совсем еще девочка впервые едет с папой-мамой в Крым, в глазах жадность и первая печаль пробуждающейся женской души, худенькие ключицы нежно торчат из платьица, под веками бархатная темень.
В полночь просыпаемся от ангельского ее голоса: – Джанкой.
Симферополь на рассвете.
Стоящие как бы поодаль, но присутствующие в каждом нашем движении и взгляде – шапки гор – Чатыр-Даг и Роман-Кош.
Вдоль пальм и брызжущих фонтанов озабоченно бегут люди, читая на ходу газеты. Устраиваемся в гостинице, в комнате величиной с вестибюль вокзала с множеством коек. В какой-то забегаловке едим манную кашу, чуть приправленную маслом, а люди вокруг, шагая, беседуя, не отрываются от газет. Снова что-то произошло, пока мы были в пути. Пытаемся поймать заголовок, ускользающий из одной перелистываемой газеты в другую: "Антипартийная группа – Маленков, Молотов, Каганович и примкнувший к ним Шепилов".
Фраза шипит змеей, сворачиваясь и разворачиваясь листами, держа на весу жало, полное яда, и все зачарованно следят за ее движениями.
В Институте минерального сырья – ВИМСе, куда нас направили на практику, мы пакуем необходимые вещи, сухой паек, бидоны для воды, палатки, раскладушки. Собираемся в горы: Игнат с профессором Сергеем Александровичем Ковалевским и его ассистенткой – на Чатыр-Даг, я с Толей, научным сотрудником ВИМСа – на Демерджи-Яйлу. Свободного времени более, чем достаточно. Игнат обычно валяется в гостинице на постели, я шатаюсь по улицам, под тополями вдоль домов из мягкого белого камня, и уже несколько раз, казалось мне, мелькает передо мной тонкий профиль девочки из ночного поезда, который привез нас в Симферополь. Ее худые ключицы нежно торчат из платья, слышится ее голос. Она как бы растворена в плывущих мимо юных созданиях, в их размытой какой-то акварельной прелести, дразнящей воображение, усиливающей прелесть летнего дня.