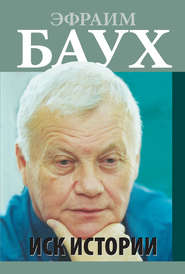По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Завеса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Герой Советского Союза, товарищ Насер перекрыл идущие по дну Суэцкого канала водопроводные трубы в Синай, и десятки тысяч египетских солдат умирали от жажды. По пустыне разъезжали израильские солдаты на джипах, поили тех, кто еще подавал признаки жизни, и увозили в лазареты.
Не было сил оторваться от экранов. Некоторые учителя украдкой вытирали слезы. Ученики слонялись по лагерю или уходили в лес, только бы не видеть и не слышать. В лесу был сухостой. Короткие грозы начала июня не могли заглушить беспрерывный гром войны, лишь чуть увлажняли землю, и после них духота становилась невыносимой, хотя, казалось, в тени деревьев должно быть прохладно.
У Цигеля тоже текли слезы, но совсем по иной причине, чем у окружающих.
Это были слезы стягивающей горло спазматической радости за своих – трудно поверить – братьев-евреев, унижаемых и травимых, которые вдруг показали всему остолбеневшему миру – на что они способны.
В эти дни в школе по радио и телеприемникам, шла прямая трансляция репортажей с полей сражений. А в разговорах не проступала, а просто свирепствовала свобода слова, выражаемая в основном, анекдотами и непечатными выражениями. Уже гуляла шутка о том, что вторая половина двадцатого века отличается от первой тем, что теперь евреи воюют, немцы борются за мир, а русские – с пьянством.
В один из дней Цигель внезапно увидел идущего прямо на него человека выше среднего роста с двумя глубокими залысинами по сторонам черепа и беспощадным остекленевшим взглядом двух, подобных стволам, глаз, от которого обрывалось внизу живота, и начинал заплетаться язык. В правильных чертах его лица наметанный глаз мог отметить слабый сдвиг, отличающий лица маньяков и палачей.
В июньскую жару человек был запакован в заграничный элегантный костюм, свежевыглаженную рубаху и тщательно подобранный галстук, как будто минуту назад вернулся из-за бугра, что в этом гнезде вышколенного шпионажа было делом обычным. Точнее сказать, не в гнезде, а на острове, изолированном от окружающей советской жизни. Об остальном пространстве здесь могли с полной уверенностью петь «я другой такой страны не знаю». Однако, согласно узаконенным правилам обучения в этой школе и по принятой в ней шкале ценностей, в сущности, подразумевалось обратное: здесь приучали школяров знать лишь другие страны, вживаться в них, чтобы виртуальность их существования здесь обернулась реальностью там.
Человек со взведенной двустволкой бесцветных, почти белых, какие бывают в минуты бешенства, но абсолютно ледяных глаз, простреливал Цигеля взглядом, от которого он весь покрылся потом. Кажется, до дна исчерпал наслаждение, смешанное со страхом – от подглядывания, подслушивания и доносительства. Оказывается, не все. Со дна души, как из отдушины, миг назад называемой пищеводом, возникли доселе неведомые Цигелю, дурно пахнущие нюансы этого чувства страха. В нем главным было раболепие собаки перед сильным хозяином, который, как может потом выясниться, и сам слаб, но умеет внушить тебе, что твоя дражайшая жизнь в его руках. В приступе уничижения хотелось эти руки лизнуть.
– Цигель. – Сухой, хрипловатый, металлический голос прошел скребком по спине Цигеля, затем по черепу, подняв его волосы, как наэлектризованная расческа.
Человек сжал рукой, а вернее, клешней, выглядящей, как орудие пытки, обернутой обшлагом рубахи с дорогой запонкой, руку Цигеля:
– Моя фамилия Козлюк. Это ведь перевод твоей фамилии с идиша на русский. Так что ты, брат, из наших, Козловых, правильно я понимаю?
– Д-д-да, – слабо пискнул Цигель, не сумев, вопреки желанию, скрыть потный поток масляного обожания, хлынувшего из всех пор и омывшего лицо бессмысленным выражением, которое может появиться только у слабоумного.
– Ты как бы мой двойник. Только ты ведомый, а я ведущий. Отныне я твой куратор, почти прокуратор, но не Понтий Пилат.
«Ишь, начитанный» – мелькнуло в голове как бы приходящего в сознание Цигеля. Совсем недавно, в ноябрьском номере прошедшего и январском этого, шестьдесят седьмого года, журнала «Москва», был опубликован роман Булгакова «Мастер и Маргарита», взбудораживший читательскую массу по всему Союзу.
– Потому, – продолжал Козлюк, – зови меня просто – Аверьяныч. И не беспокойся. Где бы ты не был, что бы с тобой не случилось, я всегда буду рядом с тобой. Молись, и помни обо мне, – неточно, но весьма впечатляюще процитировал слова тени отца Гамлета.
«Отныне у меня нет своей тени, – чувствуя, как ум заходит за разум, в полном смятении подумал Цигель, – его тень поглотила меня полностью».
Нестандартное поведение асса ловли человеческих душ не давало возможности Цигелю вернуться к себе. В следующий миг, явно чем-то озабоченный, Аверьяныч взглянул на часы, извлек из кармана миниатюрный транзистор, включил. Уже знакомый Цигелю по голосу, говорил на иврите диктор главной израильской радиостанции Бэт: передавал последние новости.
– Дело близится к концу, – сказал вдруг Аверьяныч на чистом, без всякого акцента, иврите, – полнейший разгром арабов. Уже и шутка есть: евреи в субботу не воюют.
И Цигель, уже бегло говорящий на иврите, просто онемел и окаменел, отчаянно шаря в сознании, чтобы обнаружить хотя бы слово для вежливой поддержки разговора.
– Ладно. Не переживай. «Хазак вэ амац» – «Будь силен и мужественен», – Аверьяныч достал из внутреннего кармана плоскую металлическую фляжку и два наперстка, налил коньяку.
– Ну, со знакомством.
И растворился в воздухе, как, проделывали это иные персонажи уже помянутого романа, Коровьев или, скорее, спецслужбист Азазелло.
Заложник пошлой страсти
Цигель позвонил домой, как всегда, застав тещу с детками, сообщил, что прилетает в понедельник. Теперь, будучи уже докторантом сыска, он готовил западню жене, собираясь вылететь на два дня раньше, – в субботу.
Жажда мести сушила горло, но и обостряла память. Он точно помнил, где живет этот Витас: однажды они провожали его домой всей компанией.
Цигель из аэропорта поехал прямо к родителям, чтобы оставить там вещи.
Отец был очень возбужден. Оказывается, получил задание выступать в разных организациях от имени Дома политпросвещения с разоблачением израильских агрессоров. Обложившись грудами каких-то брошюр, конспектов, он что-то сосредоточенно писал, вскакивал, жестикулировал:
– Слышал, что творится на Ближнем Востоке? Нет на них Сталина, он бы там быстро навел порядок.
Отец готов был читать сыну лекцию и был разочарован тем, что сын, чмокнув его в щеку, тут же исчез. Добрался до дома Витаса и, как говорилось на профессиональном языке подмосковной школы, «залег в слежку». Было поздно, усталость брала свое. Несмотря на середину июня, пробирал холод. Он уже начал сомневаться в успехе своего замысла.
И тут вздрогнул, но не от холода. Долгожданная парочка выпорхнула из подъезда, и в обнимку, целуясь и смеясь, пошла в сторону Цигеля. Он едва успел отпрянуть за цоколь, но они бы все равно не обратили на него внимание. Цигель поймал такси и в два счета добрался до дома.
Старуха не хотела открывать дверь, твердя в каком-то ступоре, что Цигель должен приехать через два дня.
– Да это же я, мама, вы что, голоса моего не узнаете?
Сюрреалистичность происходящего с ним с момента, как он встретился с Аверьянычем, словно бы вцепилась ему в загривок и не отпускала.
Он сидел в кухне, привыкая заново к забытому окружению, пил горячий чай, согревая ладони о стенки стакана и успокаиваясь хотя бы потому, что все, как он и предполагал, сошлось. Но что-то уж очень это успокоение напоминало тихое помешательство. Следовало взять себя в руки.
Заглянул в детскую. Сыновья спали рядом, и младший обнимал старшего брата. Не хватает им родительской любви, думал Цигель, вытирая слезы, невольно выступившие на глазах. Чувствовал, что задыхается. Пытался открыть окно в кухне, но старуха, панически боящаяся сквозняков, намертво законопатила створки.
Так вот, вырвали его из скуки и затхлости прозябания, дали попробовать вкус причастности к тайному миру, в котором решалась – не будет преувеличением сказать – судьба завтрашнего дня человечества. В этот миг, в уныло пропахшей варевом кухне, устрашающий Аверьяныч уже воспринимался как фигура легендарная. И р-раз – одним махом вернули его, Цигеля, в прежнее захолустье жизни мелкого инженеришки и читателя чужих писем. Он ужасно себя жалел, совсем размяк, даже подумывал простить ее, взвешивая все ее наслаждения, страхи, раскаяния, боль – весь этот неповторимый букет ощущений, рожденный одним – жаждой одолеть скуку, однообразие, одиночество, его равнодушие и вечную усталость от ничегонеделания на работе в библиотеке.
Стрелка часов отсчитывала третий час ночи. В тишине раздался щелчок.
Словно бы ключ повернули прямо в его сердце, и оно замкнулось.
Судорожным движением, не зная зачем, надел темные очки. Разбуженные в нем Аусткалном актерские способности, взыграли не во время.
Она возникла на пороге и тоже сделала движение – броситься к нему. Замерла. Отчужденность, прячущаяся за очками, была гнетущей и угрожающей.
– Цигель, дорогой, – наконец-то выдавила неуверенно, с искусственной игривостью, – я была на дне рождения.
– Я вас видел, – проскрипел деревянным голосом, с трудом разлепив губы, – вы обнимались и целовались.
И пошел к выходу.
– Дети, – отчаянно крикнула она в захлопнувшуюся за ним дверь.
Учитель древности
Шеф на работе принял Цигеля с распростертыми объятиями, возвестил ему, что отныне он вступает в должность старшего инженера проектов, и сотрудники, чьи кислые лица оплывали в улыбках, просят его сделать в конце недели небольшое сообщение о том, что он почерпнул нового в профессиональной области.
Также и Аусткалн расточал ему комплименты, обнимал за плечи, вручил конверт с деньгами, неизвестно за что:
– Пришла характеристика из школы. Сплошь превосходные степени. Вы – прирожденный разведчик. Прямо так и написано. Вам предстоит переходный период. Но весьма важный. Пока отдыхайте. Ровно через неделю вы у нас. Вот, я вам выписываю пропуск. Вас ждет сюрприз.
Дела шли превосходно, заработок значительно увеличился, а на душе скребли кошки. Во время его отсутствия, три месяца жена получала за него зарплату. Теперь он жил, вернее, ночевал у родителей, целый день пропадая на работе в буквальном смысле этого слова. Он догадывался, что она следит за ним, ибо начинала звонить после окончания рабочего дня, клялась, что ничего такого у нее с Витасом не было, впадала в истерику, но он-то ничего не мог с собой поделать: пребывал в каком-то ступоре.
Поздно, как обычно, вернулся в родительский дом, где вовсю гремел скандал в три голоса, немного развеселивший его. Оказывается, к бабке приходили какие-то молодые евреи записать песни на идиш начала века, которые она пела удивительно чистым высоким голосом. После их ухода отец набросился на нее: