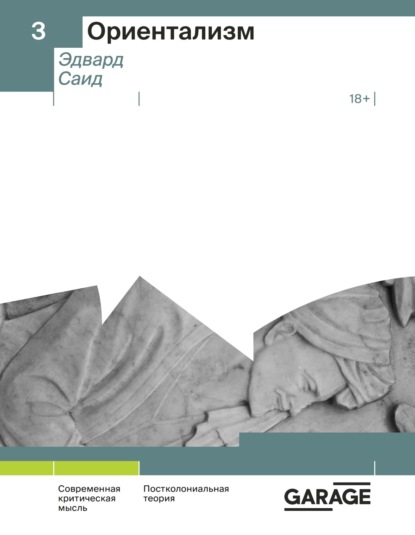По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ориентализм
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Принимая вызов Дж. М. Робертсона[168 - Джон Маккиннон Робертсон (1856–1933) – британский журналист, сторонник секуляризма.], члена палаты от Тайн-сайда, Бальфур сам поднял поставленный Робертсоном вопрос: «Как смеете вы быть высокомерным по отношению к тем людям, которых вы предпочитаете называть „восточными“ (Oriental)?» Выбор слова «восточный» (в форме «ориентальный») был каноническим; его использовали Чосер и Мандевиль[169 - Бернард де Мандевиль (1670–1733) – английский философ, экономист.], Шекспир, Драйден[170 - Джон Драйден (1631–1700) – английский поэт и драматург.], Поуп[171 - Александр Поуп (1688–1744) – английский поэт эпохи классицизма.] и Байрон. Он обозначал Азию или Восток (East) – географически, морально, культурно. В Европе можно было бы говорить о восточной (Oriental) личности, восточной атмосфере, восточной сказке, восточном деспотизме или восточном способе производства и быть понятым. Маркс использовал это слово, и теперь его использовал Бальфур; его выбор был понятен и не требовал никаких объяснений.
Я не занимаю превосходящей позиции. Но я спрашиваю тех [Робертсона и других]… у кого есть хотя бы самое поверхностное знание истории, посмотрят ли они в лицо фактам, с которыми приходится иметь дело британскому государственному деятелю, когда он оказывается в положении превосходства над такими великими народами, как обитатели Египта и стран Востока. Мы знаем цивилизацию Египта лучше, чем цивилизацию какой бы то ни было страны. Мы знаем ее незапамятные времена, мы знаем ее ближе, мы знаем о ней больше. Она выходит далеко за пределы ничтожного отрезка истории нашего народа, который теряется в доисторическом периоде, том времени, когда египетская цивилизация уже миновала свой расцвет. Посмотрите на все страны Востока. Не говорите о превосходстве или неполноценности.
Две великие темы главенствуют в его замечаниях здесь и далее: знание и власть, бэконовские темы[172 - Фрэнсис Бэкон (1561–1626) – английский философ, историк, основоположник эмпиризма. Речь идет о цитате ipsa scientia potestas est – «знание само по себе есть власть», использованной Бэконом в Meditationes Sacrae (1597).]. Поскольку Бальфур обосновывает необходимость британской оккупации Египта, превосходство в его сознании связано с «нашим» знанием Египта, а вовсе не с военной или экономической мощью. Знание для Бальфура означает изучение цивилизации от ее истоков до расцвета и упадка – и, конечно же, это означает способность делать это. Знание означает подъем над сиюминутным, над самим собой, к чужому и далекому. Объект такого познания изначально уязвим для испытующего взгляда; этот объект – «факт», который, если он развивается, изменяется или иным образом трансформируется так, как свойственно цивилизациям, тем не менее фундаментально, даже онтологически устойчив. Иметь такое знание о таком предмете – значит господствовать над ним, иметь над ним власть. И власть здесь означает для «нас» (us) отказ в автономии «ей» (it), восточной стране, поскольку мы ее знаем и она существует в некотором смысле так, как мы ее знаем. Британское знание Египта – это и есть Египет для Бальфура, и бремя знания заставляет такие вопросы, как неполноценность и превосходство, казаться незначительными. Бальфур нигде не отрицает британского превосходства и египетской неполноценности; он принимает их как должное, когда описывает последствия знания.
Прежде всего взгляните на факты. Западные народы с момента их появления в истории демонстрируют зачатки способностей к самоуправлению… к собственным достижениям… Вы можете пройтись по всей истории восточных народов (the Orientals) в широком смысле понимания Востока (broadly speaking the East), и вы не найдете никаких следов самоуправления. Все их великие века – а они были поистине великими – прошли под эгидой деспотичного, абсолютного правления. Весь их великий вклад в цивилизацию – а он поистине велик – был сделан именно при такой форме правления. Завоеватель сменял завоевателя, одно господство сменяло другое, но никакие превратности судьбы и удачи не приводили к тому, чтобы одна из этих наций сама по себе установила то, что мы, с западной точки зрения, называем самоуправлением. Это факт. Это не вопрос превосходства и неполноценности. Я полагаю, что истинная восточная мудрость гласила бы, что работа по управлению, которую мы возложили на себя в Египте и где-либо еще – не для философа: это труд грязный, труд неблагодарный – выполнять необходимую работу.
Поскольку эти факты являются фактами, Бальфур переходит к следующей части своей аргументации.
Хорошо ли для этих великих наций – я признаю их величие, – если это абсолютное правление исходит от нас? Я думаю, хорошо. Я думаю, опыт показывает, что они оказались под гораздо лучшим управлением, чем когда-либо прежде в истории всего мира, и что это благо не только для них, но, несомненно, благо для всего цивилизованного Запада… Мы находимся в Египте не только ради египтян, хотя и ради них тоже, но и ради Европы в целом.
Бальфур не приводит никаких доказательств тому, что египтяне и «народы, с которыми мы имеем дело», ценят или даже понимают благо, которое им приносит колониальная оккупация. Бальфуру, однако, не приходит в голову позволить египтянину говорить за себя, поскольку, по-видимому, любой египтянин, желающий высказаться, скорее будет «агитатором, желающим создать трудности», чем добродушным местным жителем, который не замечает «трудностей» иностранного господства. Итак, решив этические проблемы, Бальфур переходит, наконец, к проблемам практическим. «Если это наше дело – править, с благодарностью или без благодарности, с настоящей и подлинной памятью обо всех потерях, от которых мы избавили население [Бальфур ни в коем случае не подразумевает, что часть этой потери – утрата или, по крайней мере, отсрочка на неопределенный срок независимости Египта], и без отчетливого представления обо всех благах, которые мы им дали; если это наш долг, то как его исполнить?» Англия посылает «в эти страны своих самых лучших [подданных]». Эти самоотверженные управленцы трудятся «среди десятков тысяч людей, принадлежащих к другой вере, другому народу, другой дисциплине, другим условиям жизни». Эту работа по управлению возможна благодаря пониманию того, что дома их поддерживает правительство, которое одобряет всё, что они делают. Но «как только у местного населения зарождается инстинктивное чувство, что за теми, с кем им приходится иметь дело, нет ни силы, ни авторитета, ни сочувствия, всеобъемлющей и щедрой поддержки страны, которая их туда послала, эти народы теряют всё то чувство порядка, которое составляет основу их цивилизации, точно так же, как наши офицеры теряют то чувство власти и авторитета, которое лежит в основе всего, что они могут сделать для блага тех, к кому были направлены».
Логика Бальфура здесь интересна не в последнюю очередь тем, что полностью согласуется с предпосылками всей его речи. Англия знает Египет; Египет – это то, что знает Англия; Англия знает, что Египет не может иметь самоуправления; Англия подтверждает это, оккупируя Египет; для египтян Египет – это то, что Англия оккупировала и чем она теперь управляет; оккупация иноземцами, следовательно, становится «самой основой» современной египетской цивилизации; Египет требует, даже настаивает на британской оккупации. Но если особая близость между правителем и управляемыми в Египте нарушается сомнениями парламента внутри страны, то «авторитет тех, кто… является господствующим народом – и, как я думаю, должен оставаться господствующим народом, – был недооценен». Страдает не только престиж Англии: «это напрасная трата времени для горстки английских чиновников – одарите их, как вам угодно, наделите всеми чертами характера и талантами, какие только можете себе вообразить, – для них невозможно выполнить ту великую миссию, которую в Египте – не только мы, но и весь цивилизованный мир – возложили на них»[173 - Эта и предшествующие цитаты из речи Артура Джеймса Бальфура в Палате общин приводятся по: Great Britain, Parliamentary Debates (Commons). 1910. 5th ser., 17. P. 1140–1146. См. также: Thornton A. P. The Imperial Idea and Its Enemies: A Study in British Power. London: MacMillan & Co., 1959. P. 357–360. Речь Бальфура была направлена в защиту политики Элдона Горста в Египте, ее обсуждение см.: Mellini P. J. D. Sir Eldon Gorst and British Imperial Policy in Egypt. Unpublished Ph. D. dissertation, Stanford University, 1971.].
Как риторическое представление речь Бальфура примечательна тем, какую роль он играет и как представляет самых разных персонажей. Есть, конечно, «англичане», для которых местоимение «мы» употребляется во всей полновесности выдающегося могущества человека, который чувствует себя представителем всего лучшего в истории своей нации. Бальфур также может говорить от имени цивилизованного мира, Запада и относительно небольшой группы колониальных чиновников в Египте. Если он и не говорит непосредственно от лица «восточных людей» (the Orientals), то это потому, что они, в конце концов, говорят на другом языке; однако он знает, что они чувствуют, так как он знает их историю, их доверие к таким, как он, и их ожидания. Тем не менее он говорит за них в том смысле, что сказанное ими, если бы их спросили и если бы они были способны ответить, несколько бесполезно подтвердило бы уже и так очевидное: то, что они являются подчиненным народом, покоренным теми, кто знает их и что хорошо для них, лучше, чем они сами могли бы знать. Их великое прошлое осталось в прошлом; в современном мире они полезны только потому, что могущественные и современные империи эффективно вывели их из плачевного состояния упадка и превратили в перевоспитанных обитателей продуктивных колоний.
Египет, в частности, был превосходным примером, и Бальфур прекрасно понимал, какое право он имеет говорить как член парламента своей страны от имени Англии, Запада, западной цивилизации о современном Египте. Ибо Египет был не просто еще одной колонией: он был оправданием западного империализма; он был, до его аннексии Англией, почти академическим примером восточной отсталости; он должен был стать триумфом английских знаний и власти. В период между 1882, когда Англия оккупировала Египет и положила конец националистическому восстанию полковника Ораби[174 - Ахмед Ораби (1841–1911) – офицер египетской армии, возглавивший восстание против османского наместника в Египте и Судане. Революционная активность в Египте стала причиной английской оккупации.], и 1907 годом представителем Англии в Египте, хозяином Египта, был Ивлин Бэринг[175 - Ивлин Бэринг (1841–1917) – английский политический деятель.] (также известный как «Заносчивый Бэринг»), лорд Кромер. 30 июля 1907 года в Палате общин не кто иной как Бальфур поддержал назначение Кромеру пенсионной выплаты в пятьдесят тысяч фунтов в качестве вознаграждения за то, что он сделал в Египте. «Кромер создал (made) Египет», – сказал Бальфур:
Во всём, к чему он прикасался, он преуспевал… Стараниями лорда Кромера за последнюю четверть века Египет поднялся с самого дна социальной и экономической деградации до его нынешнего состояния – я уверен, единственного в своем роде среди восточных (Oriental) наций – материального и морального процветания[176 - Judd D. Balfour and the British Empire: A Study in Imperial Evolution, 1874–1932. London: MacMillan & Co., 1968. P. 286. См. также: P. 292. Даже в 1926 году Бальфур – безо всякой иронии – говорил о Египте как о «независимой нации».].
Как измерялось моральное процветание Египта, Бальфур не решился сказать. Британский экспорт в Египет был равен по объему экспорту всей Африки – это, безусловно, указывало на своего рода совместное (несколько неравномерное) финансовое процветание Египта и Англии. Но что действительно имело значение, так это непрекращающаяся, всеохватывающая западная опека восточной страны, от ученых, миссионеров, бизнесменов, солдат и учителей, которые готовили, а затем осуществляли оккупацию, до высокопоставленных чиновников, таких как Кромер и Бальфур, которые считали себя обеспечивающими, направляющими, а иногда и принуждающими Египет подняться из восточного запустения к его нынешнему одинокому возвышенному положению.
Если успех Британии в Египте и был таким выдающимся, как утверждал Бальфур, то он ни в коем случае не был необъяснимым или иррациональным. Египетские дела управлялись в соответствии с общей теорией, выразителем которой был как Бальфур в своих представлениях о восточной цивилизации, так и Кромер, управляющий повседневными делами в Египте. Самое важное в этой теории в течение первого десятилетия двадцатого века было в том, что она работала, и работала ошеломляюще хорошо. Довод, сведенный к простейшей формулировке, был ясен, точен, его легко было понять. Есть люди Запада (Westeners), а есть люди Востока (Orientals). Первые господствуют; вторые должны подчиняться, что обычно означает оккупацию их земель, жесткий контроль над их внутренними делами, предоставление их жизни и богатств в распоряжение той или иной западной державы. То, что Бальфур и Кромер, как мы вскоре увидим, могли свести человечество к таким безжалостным культурным и расистским категориям, вовсе не было признаком их особой порочности. Скорее, это было показателем того, насколько упрощенной стала общая доктрина к тому времени, когда ее начали применять, – упрощенной и эффективной.
В отличие от Бальфура, чьи тезисы о восточных народах претендовали на объективную универсальность, Кромер говорил о них конкретно как о тех, кем он управлял или с кем ему приходилось иметь дело, сначала в Индии, а затем в течение двадцати пяти лет в Египте, когда он стал главным генеральным консулом всей Британской империи. «Восточные народы» Бальфура – это «подчиненные народы» (subject races) Кромера, послужившие ему темой для длинного эссе, опубликованного в Edinburgh Review в январе 1908 года. Опять же знание подчиненных или восточных народов – это то, что делает управление ими легким и прибыльным; знание дает власть (power), больше власти требует больше знаний и так далее во всё более и более прибыльной диалектике информации и контроля. Согласно Кромеру, империя Англии не распадется, если такие вещи, как милитаризм и коммерческий эгоизм дома, и «свободные институты» в колонии (в отличие от британского управления «в соответствии с законами христианской морали»), держать под контролем. Поскольку если, согласно Кромеру, логика – это нечто такое, «существование чего восточный человек склонен полностью игнорировать», то верный метод управления состоит не в том, чтобы навязать ему сверхнаучные меры или физически принудить его принять логику. Скорее следует понять его ограниченность и «попытаться найти, к удовольствию подчиненного народа, более подходящие и, можно надеяться, более прочные узы единения между управляющими и управляемыми». Скрывающаяся повсюду за усмирением покоренного народа имперская мощь эффективна благодаря своему утонченному пониманию и нечастому использованию, а не благодаря своим солдатам, жестоким сборщикам налогов и безудержной силе. Одним словом, империи следует быть мудрой; она должна сменить свою алчность на бескорыстие, а нетерпение – на гибкую дисциплину.
Выражаясь яснее, когда говорят, что коммерческий дух должен быть под некоторым контролем, это значит то, что при общении с индийцами, египтянами, шиллуками[177 - Шиллуки – ключевая этническая группа Южного Судана.], или зулусами[178 - Зулусы – самая крупная этническая группа Южной Африки.] первый вопрос, который следует задавать: что все эти люди, говоря в национальном масштабе (nationally speaking), более или менее in statu pupillari[179 - «Находящиеся под опекой» (лат.).], сами думают о своих собственных интересах, хотя этот вопрос и заслуживает серьезного рассмотрения. Но важно, чтобы каждый особый вопрос решался главным образом с учетом того, что в свете западных знаний и опыта, согласованного с местными воззрениями, мы сознательно считаем наилучшим для подчиненного народа, без оглядки на какие-либо реальные или предполагаемые преимущества, которые Англия как нация может получить, или, как это чаще бывает, на особые интересы, представленные одним или несколькими влиятельными классами англичан. Если британская нация в целом будет держать этот принцип в уме и строго настаивать на его применении, то, хотя мы никогда не сможем взрастить патриотизм, подобный патриотизму, основанному на родстве народов или общности языка[180 - Идея о связи языка и национальной идентичности была доминирующей в XIX–XX вв. Потому происходил процесс кодификации языков, создания грамматик и словарей (например, в 1860-х гг. издается словарь Владимира Ивановича Даля, а с 1904 г. начинается подготовка реформы орфографии русского языка). Не случайно в этот период начинаются дискуссии о языковой политике на окраинах империй (например, в отношении балканских народов и их славянских языков в Австро-Венгрии, тюркских языков в Российской империи).], мы, возможно, сможем воспитать своего рода космополитическую преданность, основанную на уважении, неизменно связанном с превосходящими талантами и бескорыстием, и на благодарности как за уже оказанные милости, так и за грядущие. Во всяком случае, есть надежда, что египтянин будет колебаться, прежде чем свяжет свою судьбу с каким-нибудь будущим Ораби… Даже дикарь Центральной Африки может в конце концов научиться петь гимн в честь Астреи Редукс[181 - Астреа Редукс – панегирическое произведение Джона Драйдена (1631–1700) на восшествие на престол Карла II. Драйден осудил период революции Оливера Кромвеля и восхвалял «возвращение царства справедливости (само название – отсылка к греческой богине справедливости Астрее) на землю».] в лице британского чиновника, который отказывает ему в джине, но дает правосудие. Более того, выиграет торговля[182 - Baring E., Lord Cromer. Political and Literary Essays, 1908–1913. 1913; reprint ed., Freeport, N. Y.: Books for Libraries Press, 1969. P. 40, 53, 12–14.].
О том, насколько «серьезно» правитель должен рассматривать предложения подчиненных народов, свидетельствует абсолютное неприятие Кромером египетского национализма. Собственные местные институты, отсутствие иностранной оккупации, национальный суверенитет – эти неудивительные требования неизменно отвергались Кромером, который недвусмысленно утверждал, что «реальное будущее Египта… лежит не на пути узкого национализма, который будет охватывать только коренных египтян… а скорее на пути расширенного космополитизма»[183 - Ibid. P. 171.]. Подчиненные народы (subject races) не могли знать, что для них хорошо. Большинство из них были выходцами с Востока, и об их характерных чертах Кромер был очень хорошо осведомлен, поскольку имел опыт общения с ними как в Индии, так и в Египте. Одной из удобных для Кромера особенностей восточных людей было то, что управление ими, хотя обстоятельства могли тут и там немного различаться, почти везде было практически одинаковым[184 - Owen R. The Influence of Lord Cromer’s Indian Experience on British Policy in Egypt 1883–1907 // Middle Eastern Affairs, Number Four: St. Antony’s Papers Number 17 / Ed. Albert Hourani. London: Oxford University Press, 1965. P. 109–139.]. Это было так, конечно, потому что восточные люди были почти везде практически одинаковы.
Тут мы, наконец, приближаемся к долго формировавшейся основе сущностного знания, как академического, так и практического, которое Кромер и Бальфур впитали из вековой традиции современного западного ориентализма: знания о людях Востока, их народах, характере, культуре, истории, традициях, обществе и возможностях. Это знание было эффективным: Кромер считал, что он использовал его для управления Египтом. Более того, это знание было проверенным и неизменным, поскольку «восточные люди» для всех практических целей были платоновской сущностью[185 - «По Платону, сущность („идея“) несводима к телесно-чувственному бытию; она имеет сверхчувственный нематериальный характер, вечна и бесконечна. Сущность постигается в понятии („логосе“)». Основной смысл сказанного заключается в том, что каждой абстрактной сущности (например, справедливости) соответствует некий набор умозрительных характеристик (понятий), который, однако, не соотносим с самой идеей – абстракцией, которую «ум» видит, как определенное надсущностное бытие. Вокруг каждой идеи выстраиваются сложные системы других идей, создавая смесь единства и множества. «Рассудок» отождествляет идею и понятие (логос) – и воспринимает идею как некий набор свойств. Только «ум» понимает, что идея – не соотносится с понятием, что она несводима к тем рассуждениям, которые выстраиваются вокруг нее. То есть «восточный человек» – это идея, некая абстракция, непостижимая разумом, которая существует в системе других идей (например, идеи «нас»). Она отождествляется с понятием «восточный человек», вокруг которого выстроена система характеристик, которые и постигают колониальные администраторы, задавая «понятию» сущностные характеристики. Позднее Саид отмечает размежевание между «живыми людьми» и «платоновскими идеями», тем самым демонстрируя, что ключевой принцип ориентализма – это выстраивание системы связок идей и понятий, которые вытесняют реальность («эйдос») умозрительными характеристиками. См. подробнее: Месяц С. Платоновская концепция дискурсивного знания, Философский журнал, 1 (6). 2011. С. 20–30.], которую любой ориенталист (или правитель над восточным народом) мог исследовать, понять и раскрыть. Так, в тридцать четвертой главе своего двухтомного труда «Современный Египет», авторитетном отчете о собственном опыте и достижениях, Кромер излагает своего рода личный канон ориенталистской мудрости:
Сэр Альфред Лайалл[186 - Альфред Комин Лайалл (1835–1911) – британский государственный деятель, историк литературы и поэт. Был служащим колониальной администрации в Индии.] однажды сказал мне: «Точность отвратительна восточному уму. Каждый англо-индиец должен всегда помнить эту максиму». Недостаток точности, который легко перерождается в полноту неправды, – вот главная характеристика восточного ума. Европеец рассуждает разумно; его изложение фактов лишено всякой двусмысленности; он прирожденный логик, хотя, возможно, логику и не изучал; он по своей природе скептик и требует доказательств, прежде чем сможет принять истинность любого утверждения; его тренированный интеллект работает как механизм. Уму восточного человека, напротив, как, впрочем, и его живописным улицам, в высшей степени недостает симметрии. Его рассуждения носят самый небрежный характер. Хотя древние арабы и владели в несколько большей степени наукой диалектики, их потомки отличаются исключительным недостатком логических способностей. Они часто неспособны сделать самые очевидные выводы из каких-либо простых посылок, которые сами признают истинными. Попытайтесь добиться простого изложения фактов от любого обычного египтянина. Его объяснение, как правило, будет длительным и недостаточно ясным. Он, вероятно, будет противоречить себе с полдюжины раз, прежде чем закончит свой рассказ. Он будет сбиваться на простейших встречных вопросах.
Так восточные люди или арабы показаны легковерными, «лишенными энергии и инициативы», склонными к «грубой лести», интригам, хитрости и дурному обращению с животными; восточные люди не могут ходить ни по дороге, ни по тротуару (их беспорядочный ум не в состоянии понять очевидное умному европейцу – то, что дороги и тротуары созданы для ходьбы); восточные люди – закоренелые лжецы, они «вялы и подозрительны» и во всем противоположны ясности, прямоте и благородству англосаксонского народа (race)[187 - Baring E., Lord Cromer. Modern Egypt. N. Y.: Macmillan Co., 1908. 2. P. 146–167. Британское видение британской политики в Египте, прямо противоположное позиции Кромера, см.: Blunt W. S. Secret History of the English Occupation of Egypt: Being a Personal Narrative of Events. New York: Alfred A. Knopf, 1922. Существует важное обсуждение темы противодействия египтян британскому правлению см.: Khouri M. A. Poetry and the Making of Modern Egypt, 1882–1922. Leiden: E. J. Brill, 1971.].
Кромер не скрывает, что восточные народы для него всегда были и остаются лишь человеческим материалом, которым он управлял в британских колониях. «Поскольку я всего лишь дипломат и администратор, чьим предметом изучения является человек, но с точки зрения управления им, – говорит Кромер, – я удовлетворюсь тем, что отмечу тот факт, что так или иначе восточный человек обычно действует, говорит и мыслит образом, прямо противоположным человеку европейскому»[188 - Cromer. Modern Egypt. 2. P. 164.]. Описания Кромера, конечно, частично основаны на непосредственном наблюдении, но иногда он ссылается на авторитеты ортодоксального ориентализма (в частности, на Эрнеста Ренана и Константе-на Франсуа Вольне[189 - Константен Франсуа Вольней (1757–1820) – французский просветитель, философ, ориенталист.]), чтобы подкрепить свою точку зрения. На эти авторитеты он также полагается, когда дело доходит до объяснения того, почему люди Востока таковы, каковы есть. Он не сомневается, что любое знание восточного человека подтвердит его взгляды, согласно которым, памятуя о его описании египтянина, озадаченного встречным вопросом, восточный человек признается заведомо виновным. Преступление состояло в том, что восточный человек был восточным, и это верный знак того, что такая тавтология была общепринятой настолько, что могла существовать даже без обращения к европейской логике[190 - Следует отметить, что «ориентализм» часто обвиняли в нарушении формальной логики.] или симметрии ума. Таким образом, любое отклонение от того, что считалось нормами восточного поведения, считалось неестественным; в последнем ежегодном докладе Кромера из Египта египетский национализм, соответственно, провозглашается «совершенно нестандартной идеей» и «растением экзотического, а не местного происхождения»[191 - Цит. по: Marlowe J. Cromer in Egypt. London: Elek Books, 1970. P. 271.].
Мы были бы неправы, я думаю, недооценив хранилище общепризнанных знаний, кодексы ориенталистской ортодоксии, на которые Кромер и Бальфур повсюду ссылаются в своих текстах и в своей общественно-политической деятельности. Утверждать, что ориентализм был рационализацией колониального правления – значит игнорировать ту степень, в которой ориентализм был обоснованием колониального правления, а не его оправданием постфактум. Люди всегда делили мир на области, имеющие реальные или воображаемые отличия друг от друга. Абсолютная демаркация между Востоком и Западом (East and West), которую Бальфур и Кромер так самодовольно принимают, создавалась годами, даже столетиями. Были, конечно, многочисленные путешествия и открытия, были торговые контакты и войны. Но важнее то, что с середины XVIII века в отношениях между Востоком и Западом существовало два главных элемента. Одним из них было нарастающее систематическое знание в Европе о Востоке, знание, подстегиваемое колониальным опытом, а также широко распространенным интересом к чуждому и необычному, задействованным развивающимися науками – этнологией, сравнительной анатомией, филологией и историей; более того, к этому систематическому знанию добавился существенный корпус текстов, созданных романистами, поэтами, переводчиками и талантливыми путешественниками. Другой особенностью отношений Европы и Востока было то, что Европа всегда находилась в положении силы, если не сказать господства. Эвфемизмы здесь невозможны. Правда, отношение сильного к слабому можно было бы замаскировать или смягчить, как это было, когда Бальфур признавал «величие» восточных цивилизаций. Но, по сути, отношения в политике, культуре и даже религии рассматривались – на Западе, поскольку именно это нас и интересует, – как отношения между партнером сильным и слабым.
Для того чтобы описать эти отношения, использовалось много определений: Бальфур и Кромер, как правило, использовали некоторые из них. Восточный человек иррационален, развратен (падший), инфантилен и «отличен» (different); тогда как европеец рационален, добродетелен, зрел и «нормален». Но способ оживить отношения состоял в повсеместном подчеркивании того факта, что восточный человек живет в другом, но тщательно организованном мире, мире с собственными национальными, культурными и эпистемологическими границами и принципами внутренней согласованности. Однако то, что делало мир Востока доступным для понимания и самобытным, было не результатом его собственных усилий, а скорее сложной серией искусных манипуляций, при помощи которых Запад определял Восток. Так оба аспекта культурных отношений, о которых я говорил, соединяются. Знание Востока, порожденное силой, в некотором смысле создает Восток, восточного человека и его мир. На языке Кромера и Бальфура восточный человек изображается как некто, кого судят (как на суде), кого изучают и описывают (как в учебной программе), кого наказывают (как в школе или тюрьме), кого изображают (как в пособии по зоологии). Дело в том, что в каждом из этих случаев восточный человек контролируется и репрезентируется господствующими структурами. Откуда они берутся?
Сила культуры – не то, что очень легко обсуждать, и одна из целей настоящей работы – проиллюстрировать, проанализировать и осмыслить ориентализм как проявление силы культуры. Другими словами, лучше не рисковать, давая обобщения о столь неопределенном и в то же время столь важном понятии, как сила культуры, пока не будет проанализировано достаточное количество материала. Но с самого начала можно сказать, раз уж речь идет о Западе XIX и XX веков, что существовало предположение, что Восток и всё, что на нем находится, если не в явном виде уступает Западу, то нуждается в корректирующем изучении. Восток виделся как бы на фоне классной комнаты, суда, тюрьмы, иллюстрированного пособия. Таким образом, ориентализм – это знание Востока, помещающее всё, имеющее отношение к Востоку, в класс, суд, тюрьму или учебник для исследования, суждения, наказания или управления.
В первые годы двадцатого века такие люди, как Бальфур и Кромер, могли говорить то, что они говорили, так, как они это делали, потому что традиция ориентализма, еще более ранняя, чем традиция XIX века, обеспечила их словарем, образами, речевыми оборотами и приемами, с помощью которых они это говорили. Тем не менее ориентализм был подкреплен твердым знанием, которое Европа, или Запад, буквально навязала значительной части земного шара. Период мощного прогресса в институциях и в наполнении ориентализма в точности совпадает с периодом беспрецедентной европейской экспансии; с 1815 по 1914 год европейские колониальные владения расширились примерно с 35 процентов поверхности земли до примерно 85 процентов[192 - Magdoff, Harry. Colonialism (1763 – c.1970). Encyclopaedia Britannica. 15th ed. 1974. P. 893–894. См. также: Fieldhouse D. K. The Colonial Empires: A Comparative Survey from the Eighteenth Century. N.Y.: Delacorte Press, 1967. P. 178.]
Я не занимаю превосходящей позиции. Но я спрашиваю тех [Робертсона и других]… у кого есть хотя бы самое поверхностное знание истории, посмотрят ли они в лицо фактам, с которыми приходится иметь дело британскому государственному деятелю, когда он оказывается в положении превосходства над такими великими народами, как обитатели Египта и стран Востока. Мы знаем цивилизацию Египта лучше, чем цивилизацию какой бы то ни было страны. Мы знаем ее незапамятные времена, мы знаем ее ближе, мы знаем о ней больше. Она выходит далеко за пределы ничтожного отрезка истории нашего народа, который теряется в доисторическом периоде, том времени, когда египетская цивилизация уже миновала свой расцвет. Посмотрите на все страны Востока. Не говорите о превосходстве или неполноценности.
Две великие темы главенствуют в его замечаниях здесь и далее: знание и власть, бэконовские темы[172 - Фрэнсис Бэкон (1561–1626) – английский философ, историк, основоположник эмпиризма. Речь идет о цитате ipsa scientia potestas est – «знание само по себе есть власть», использованной Бэконом в Meditationes Sacrae (1597).]. Поскольку Бальфур обосновывает необходимость британской оккупации Египта, превосходство в его сознании связано с «нашим» знанием Египта, а вовсе не с военной или экономической мощью. Знание для Бальфура означает изучение цивилизации от ее истоков до расцвета и упадка – и, конечно же, это означает способность делать это. Знание означает подъем над сиюминутным, над самим собой, к чужому и далекому. Объект такого познания изначально уязвим для испытующего взгляда; этот объект – «факт», который, если он развивается, изменяется или иным образом трансформируется так, как свойственно цивилизациям, тем не менее фундаментально, даже онтологически устойчив. Иметь такое знание о таком предмете – значит господствовать над ним, иметь над ним власть. И власть здесь означает для «нас» (us) отказ в автономии «ей» (it), восточной стране, поскольку мы ее знаем и она существует в некотором смысле так, как мы ее знаем. Британское знание Египта – это и есть Египет для Бальфура, и бремя знания заставляет такие вопросы, как неполноценность и превосходство, казаться незначительными. Бальфур нигде не отрицает британского превосходства и египетской неполноценности; он принимает их как должное, когда описывает последствия знания.
Прежде всего взгляните на факты. Западные народы с момента их появления в истории демонстрируют зачатки способностей к самоуправлению… к собственным достижениям… Вы можете пройтись по всей истории восточных народов (the Orientals) в широком смысле понимания Востока (broadly speaking the East), и вы не найдете никаких следов самоуправления. Все их великие века – а они были поистине великими – прошли под эгидой деспотичного, абсолютного правления. Весь их великий вклад в цивилизацию – а он поистине велик – был сделан именно при такой форме правления. Завоеватель сменял завоевателя, одно господство сменяло другое, но никакие превратности судьбы и удачи не приводили к тому, чтобы одна из этих наций сама по себе установила то, что мы, с западной точки зрения, называем самоуправлением. Это факт. Это не вопрос превосходства и неполноценности. Я полагаю, что истинная восточная мудрость гласила бы, что работа по управлению, которую мы возложили на себя в Египте и где-либо еще – не для философа: это труд грязный, труд неблагодарный – выполнять необходимую работу.
Поскольку эти факты являются фактами, Бальфур переходит к следующей части своей аргументации.
Хорошо ли для этих великих наций – я признаю их величие, – если это абсолютное правление исходит от нас? Я думаю, хорошо. Я думаю, опыт показывает, что они оказались под гораздо лучшим управлением, чем когда-либо прежде в истории всего мира, и что это благо не только для них, но, несомненно, благо для всего цивилизованного Запада… Мы находимся в Египте не только ради египтян, хотя и ради них тоже, но и ради Европы в целом.
Бальфур не приводит никаких доказательств тому, что египтяне и «народы, с которыми мы имеем дело», ценят или даже понимают благо, которое им приносит колониальная оккупация. Бальфуру, однако, не приходит в голову позволить египтянину говорить за себя, поскольку, по-видимому, любой египтянин, желающий высказаться, скорее будет «агитатором, желающим создать трудности», чем добродушным местным жителем, который не замечает «трудностей» иностранного господства. Итак, решив этические проблемы, Бальфур переходит, наконец, к проблемам практическим. «Если это наше дело – править, с благодарностью или без благодарности, с настоящей и подлинной памятью обо всех потерях, от которых мы избавили население [Бальфур ни в коем случае не подразумевает, что часть этой потери – утрата или, по крайней мере, отсрочка на неопределенный срок независимости Египта], и без отчетливого представления обо всех благах, которые мы им дали; если это наш долг, то как его исполнить?» Англия посылает «в эти страны своих самых лучших [подданных]». Эти самоотверженные управленцы трудятся «среди десятков тысяч людей, принадлежащих к другой вере, другому народу, другой дисциплине, другим условиям жизни». Эту работа по управлению возможна благодаря пониманию того, что дома их поддерживает правительство, которое одобряет всё, что они делают. Но «как только у местного населения зарождается инстинктивное чувство, что за теми, с кем им приходится иметь дело, нет ни силы, ни авторитета, ни сочувствия, всеобъемлющей и щедрой поддержки страны, которая их туда послала, эти народы теряют всё то чувство порядка, которое составляет основу их цивилизации, точно так же, как наши офицеры теряют то чувство власти и авторитета, которое лежит в основе всего, что они могут сделать для блага тех, к кому были направлены».
Логика Бальфура здесь интересна не в последнюю очередь тем, что полностью согласуется с предпосылками всей его речи. Англия знает Египет; Египет – это то, что знает Англия; Англия знает, что Египет не может иметь самоуправления; Англия подтверждает это, оккупируя Египет; для египтян Египет – это то, что Англия оккупировала и чем она теперь управляет; оккупация иноземцами, следовательно, становится «самой основой» современной египетской цивилизации; Египет требует, даже настаивает на британской оккупации. Но если особая близость между правителем и управляемыми в Египте нарушается сомнениями парламента внутри страны, то «авторитет тех, кто… является господствующим народом – и, как я думаю, должен оставаться господствующим народом, – был недооценен». Страдает не только престиж Англии: «это напрасная трата времени для горстки английских чиновников – одарите их, как вам угодно, наделите всеми чертами характера и талантами, какие только можете себе вообразить, – для них невозможно выполнить ту великую миссию, которую в Египте – не только мы, но и весь цивилизованный мир – возложили на них»[173 - Эта и предшествующие цитаты из речи Артура Джеймса Бальфура в Палате общин приводятся по: Great Britain, Parliamentary Debates (Commons). 1910. 5th ser., 17. P. 1140–1146. См. также: Thornton A. P. The Imperial Idea and Its Enemies: A Study in British Power. London: MacMillan & Co., 1959. P. 357–360. Речь Бальфура была направлена в защиту политики Элдона Горста в Египте, ее обсуждение см.: Mellini P. J. D. Sir Eldon Gorst and British Imperial Policy in Egypt. Unpublished Ph. D. dissertation, Stanford University, 1971.].
Как риторическое представление речь Бальфура примечательна тем, какую роль он играет и как представляет самых разных персонажей. Есть, конечно, «англичане», для которых местоимение «мы» употребляется во всей полновесности выдающегося могущества человека, который чувствует себя представителем всего лучшего в истории своей нации. Бальфур также может говорить от имени цивилизованного мира, Запада и относительно небольшой группы колониальных чиновников в Египте. Если он и не говорит непосредственно от лица «восточных людей» (the Orientals), то это потому, что они, в конце концов, говорят на другом языке; однако он знает, что они чувствуют, так как он знает их историю, их доверие к таким, как он, и их ожидания. Тем не менее он говорит за них в том смысле, что сказанное ими, если бы их спросили и если бы они были способны ответить, несколько бесполезно подтвердило бы уже и так очевидное: то, что они являются подчиненным народом, покоренным теми, кто знает их и что хорошо для них, лучше, чем они сами могли бы знать. Их великое прошлое осталось в прошлом; в современном мире они полезны только потому, что могущественные и современные империи эффективно вывели их из плачевного состояния упадка и превратили в перевоспитанных обитателей продуктивных колоний.
Египет, в частности, был превосходным примером, и Бальфур прекрасно понимал, какое право он имеет говорить как член парламента своей страны от имени Англии, Запада, западной цивилизации о современном Египте. Ибо Египет был не просто еще одной колонией: он был оправданием западного империализма; он был, до его аннексии Англией, почти академическим примером восточной отсталости; он должен был стать триумфом английских знаний и власти. В период между 1882, когда Англия оккупировала Египет и положила конец националистическому восстанию полковника Ораби[174 - Ахмед Ораби (1841–1911) – офицер египетской армии, возглавивший восстание против османского наместника в Египте и Судане. Революционная активность в Египте стала причиной английской оккупации.], и 1907 годом представителем Англии в Египте, хозяином Египта, был Ивлин Бэринг[175 - Ивлин Бэринг (1841–1917) – английский политический деятель.] (также известный как «Заносчивый Бэринг»), лорд Кромер. 30 июля 1907 года в Палате общин не кто иной как Бальфур поддержал назначение Кромеру пенсионной выплаты в пятьдесят тысяч фунтов в качестве вознаграждения за то, что он сделал в Египте. «Кромер создал (made) Египет», – сказал Бальфур:
Во всём, к чему он прикасался, он преуспевал… Стараниями лорда Кромера за последнюю четверть века Египет поднялся с самого дна социальной и экономической деградации до его нынешнего состояния – я уверен, единственного в своем роде среди восточных (Oriental) наций – материального и морального процветания[176 - Judd D. Balfour and the British Empire: A Study in Imperial Evolution, 1874–1932. London: MacMillan & Co., 1968. P. 286. См. также: P. 292. Даже в 1926 году Бальфур – безо всякой иронии – говорил о Египте как о «независимой нации».].
Как измерялось моральное процветание Египта, Бальфур не решился сказать. Британский экспорт в Египет был равен по объему экспорту всей Африки – это, безусловно, указывало на своего рода совместное (несколько неравномерное) финансовое процветание Египта и Англии. Но что действительно имело значение, так это непрекращающаяся, всеохватывающая западная опека восточной страны, от ученых, миссионеров, бизнесменов, солдат и учителей, которые готовили, а затем осуществляли оккупацию, до высокопоставленных чиновников, таких как Кромер и Бальфур, которые считали себя обеспечивающими, направляющими, а иногда и принуждающими Египет подняться из восточного запустения к его нынешнему одинокому возвышенному положению.
Если успех Британии в Египте и был таким выдающимся, как утверждал Бальфур, то он ни в коем случае не был необъяснимым или иррациональным. Египетские дела управлялись в соответствии с общей теорией, выразителем которой был как Бальфур в своих представлениях о восточной цивилизации, так и Кромер, управляющий повседневными делами в Египте. Самое важное в этой теории в течение первого десятилетия двадцатого века было в том, что она работала, и работала ошеломляюще хорошо. Довод, сведенный к простейшей формулировке, был ясен, точен, его легко было понять. Есть люди Запада (Westeners), а есть люди Востока (Orientals). Первые господствуют; вторые должны подчиняться, что обычно означает оккупацию их земель, жесткий контроль над их внутренними делами, предоставление их жизни и богатств в распоряжение той или иной западной державы. То, что Бальфур и Кромер, как мы вскоре увидим, могли свести человечество к таким безжалостным культурным и расистским категориям, вовсе не было признаком их особой порочности. Скорее, это было показателем того, насколько упрощенной стала общая доктрина к тому времени, когда ее начали применять, – упрощенной и эффективной.
В отличие от Бальфура, чьи тезисы о восточных народах претендовали на объективную универсальность, Кромер говорил о них конкретно как о тех, кем он управлял или с кем ему приходилось иметь дело, сначала в Индии, а затем в течение двадцати пяти лет в Египте, когда он стал главным генеральным консулом всей Британской империи. «Восточные народы» Бальфура – это «подчиненные народы» (subject races) Кромера, послужившие ему темой для длинного эссе, опубликованного в Edinburgh Review в январе 1908 года. Опять же знание подчиненных или восточных народов – это то, что делает управление ими легким и прибыльным; знание дает власть (power), больше власти требует больше знаний и так далее во всё более и более прибыльной диалектике информации и контроля. Согласно Кромеру, империя Англии не распадется, если такие вещи, как милитаризм и коммерческий эгоизм дома, и «свободные институты» в колонии (в отличие от британского управления «в соответствии с законами христианской морали»), держать под контролем. Поскольку если, согласно Кромеру, логика – это нечто такое, «существование чего восточный человек склонен полностью игнорировать», то верный метод управления состоит не в том, чтобы навязать ему сверхнаучные меры или физически принудить его принять логику. Скорее следует понять его ограниченность и «попытаться найти, к удовольствию подчиненного народа, более подходящие и, можно надеяться, более прочные узы единения между управляющими и управляемыми». Скрывающаяся повсюду за усмирением покоренного народа имперская мощь эффективна благодаря своему утонченному пониманию и нечастому использованию, а не благодаря своим солдатам, жестоким сборщикам налогов и безудержной силе. Одним словом, империи следует быть мудрой; она должна сменить свою алчность на бескорыстие, а нетерпение – на гибкую дисциплину.
Выражаясь яснее, когда говорят, что коммерческий дух должен быть под некоторым контролем, это значит то, что при общении с индийцами, египтянами, шиллуками[177 - Шиллуки – ключевая этническая группа Южного Судана.], или зулусами[178 - Зулусы – самая крупная этническая группа Южной Африки.] первый вопрос, который следует задавать: что все эти люди, говоря в национальном масштабе (nationally speaking), более или менее in statu pupillari[179 - «Находящиеся под опекой» (лат.).], сами думают о своих собственных интересах, хотя этот вопрос и заслуживает серьезного рассмотрения. Но важно, чтобы каждый особый вопрос решался главным образом с учетом того, что в свете западных знаний и опыта, согласованного с местными воззрениями, мы сознательно считаем наилучшим для подчиненного народа, без оглядки на какие-либо реальные или предполагаемые преимущества, которые Англия как нация может получить, или, как это чаще бывает, на особые интересы, представленные одним или несколькими влиятельными классами англичан. Если британская нация в целом будет держать этот принцип в уме и строго настаивать на его применении, то, хотя мы никогда не сможем взрастить патриотизм, подобный патриотизму, основанному на родстве народов или общности языка[180 - Идея о связи языка и национальной идентичности была доминирующей в XIX–XX вв. Потому происходил процесс кодификации языков, создания грамматик и словарей (например, в 1860-х гг. издается словарь Владимира Ивановича Даля, а с 1904 г. начинается подготовка реформы орфографии русского языка). Не случайно в этот период начинаются дискуссии о языковой политике на окраинах империй (например, в отношении балканских народов и их славянских языков в Австро-Венгрии, тюркских языков в Российской империи).], мы, возможно, сможем воспитать своего рода космополитическую преданность, основанную на уважении, неизменно связанном с превосходящими талантами и бескорыстием, и на благодарности как за уже оказанные милости, так и за грядущие. Во всяком случае, есть надежда, что египтянин будет колебаться, прежде чем свяжет свою судьбу с каким-нибудь будущим Ораби… Даже дикарь Центральной Африки может в конце концов научиться петь гимн в честь Астреи Редукс[181 - Астреа Редукс – панегирическое произведение Джона Драйдена (1631–1700) на восшествие на престол Карла II. Драйден осудил период революции Оливера Кромвеля и восхвалял «возвращение царства справедливости (само название – отсылка к греческой богине справедливости Астрее) на землю».] в лице британского чиновника, который отказывает ему в джине, но дает правосудие. Более того, выиграет торговля[182 - Baring E., Lord Cromer. Political and Literary Essays, 1908–1913. 1913; reprint ed., Freeport, N. Y.: Books for Libraries Press, 1969. P. 40, 53, 12–14.].
О том, насколько «серьезно» правитель должен рассматривать предложения подчиненных народов, свидетельствует абсолютное неприятие Кромером египетского национализма. Собственные местные институты, отсутствие иностранной оккупации, национальный суверенитет – эти неудивительные требования неизменно отвергались Кромером, который недвусмысленно утверждал, что «реальное будущее Египта… лежит не на пути узкого национализма, который будет охватывать только коренных египтян… а скорее на пути расширенного космополитизма»[183 - Ibid. P. 171.]. Подчиненные народы (subject races) не могли знать, что для них хорошо. Большинство из них были выходцами с Востока, и об их характерных чертах Кромер был очень хорошо осведомлен, поскольку имел опыт общения с ними как в Индии, так и в Египте. Одной из удобных для Кромера особенностей восточных людей было то, что управление ими, хотя обстоятельства могли тут и там немного различаться, почти везде было практически одинаковым[184 - Owen R. The Influence of Lord Cromer’s Indian Experience on British Policy in Egypt 1883–1907 // Middle Eastern Affairs, Number Four: St. Antony’s Papers Number 17 / Ed. Albert Hourani. London: Oxford University Press, 1965. P. 109–139.]. Это было так, конечно, потому что восточные люди были почти везде практически одинаковы.
Тут мы, наконец, приближаемся к долго формировавшейся основе сущностного знания, как академического, так и практического, которое Кромер и Бальфур впитали из вековой традиции современного западного ориентализма: знания о людях Востока, их народах, характере, культуре, истории, традициях, обществе и возможностях. Это знание было эффективным: Кромер считал, что он использовал его для управления Египтом. Более того, это знание было проверенным и неизменным, поскольку «восточные люди» для всех практических целей были платоновской сущностью[185 - «По Платону, сущность („идея“) несводима к телесно-чувственному бытию; она имеет сверхчувственный нематериальный характер, вечна и бесконечна. Сущность постигается в понятии („логосе“)». Основной смысл сказанного заключается в том, что каждой абстрактной сущности (например, справедливости) соответствует некий набор умозрительных характеристик (понятий), который, однако, не соотносим с самой идеей – абстракцией, которую «ум» видит, как определенное надсущностное бытие. Вокруг каждой идеи выстраиваются сложные системы других идей, создавая смесь единства и множества. «Рассудок» отождествляет идею и понятие (логос) – и воспринимает идею как некий набор свойств. Только «ум» понимает, что идея – не соотносится с понятием, что она несводима к тем рассуждениям, которые выстраиваются вокруг нее. То есть «восточный человек» – это идея, некая абстракция, непостижимая разумом, которая существует в системе других идей (например, идеи «нас»). Она отождествляется с понятием «восточный человек», вокруг которого выстроена система характеристик, которые и постигают колониальные администраторы, задавая «понятию» сущностные характеристики. Позднее Саид отмечает размежевание между «живыми людьми» и «платоновскими идеями», тем самым демонстрируя, что ключевой принцип ориентализма – это выстраивание системы связок идей и понятий, которые вытесняют реальность («эйдос») умозрительными характеристиками. См. подробнее: Месяц С. Платоновская концепция дискурсивного знания, Философский журнал, 1 (6). 2011. С. 20–30.], которую любой ориенталист (или правитель над восточным народом) мог исследовать, понять и раскрыть. Так, в тридцать четвертой главе своего двухтомного труда «Современный Египет», авторитетном отчете о собственном опыте и достижениях, Кромер излагает своего рода личный канон ориенталистской мудрости:
Сэр Альфред Лайалл[186 - Альфред Комин Лайалл (1835–1911) – британский государственный деятель, историк литературы и поэт. Был служащим колониальной администрации в Индии.] однажды сказал мне: «Точность отвратительна восточному уму. Каждый англо-индиец должен всегда помнить эту максиму». Недостаток точности, который легко перерождается в полноту неправды, – вот главная характеристика восточного ума. Европеец рассуждает разумно; его изложение фактов лишено всякой двусмысленности; он прирожденный логик, хотя, возможно, логику и не изучал; он по своей природе скептик и требует доказательств, прежде чем сможет принять истинность любого утверждения; его тренированный интеллект работает как механизм. Уму восточного человека, напротив, как, впрочем, и его живописным улицам, в высшей степени недостает симметрии. Его рассуждения носят самый небрежный характер. Хотя древние арабы и владели в несколько большей степени наукой диалектики, их потомки отличаются исключительным недостатком логических способностей. Они часто неспособны сделать самые очевидные выводы из каких-либо простых посылок, которые сами признают истинными. Попытайтесь добиться простого изложения фактов от любого обычного египтянина. Его объяснение, как правило, будет длительным и недостаточно ясным. Он, вероятно, будет противоречить себе с полдюжины раз, прежде чем закончит свой рассказ. Он будет сбиваться на простейших встречных вопросах.
Так восточные люди или арабы показаны легковерными, «лишенными энергии и инициативы», склонными к «грубой лести», интригам, хитрости и дурному обращению с животными; восточные люди не могут ходить ни по дороге, ни по тротуару (их беспорядочный ум не в состоянии понять очевидное умному европейцу – то, что дороги и тротуары созданы для ходьбы); восточные люди – закоренелые лжецы, они «вялы и подозрительны» и во всем противоположны ясности, прямоте и благородству англосаксонского народа (race)[187 - Baring E., Lord Cromer. Modern Egypt. N. Y.: Macmillan Co., 1908. 2. P. 146–167. Британское видение британской политики в Египте, прямо противоположное позиции Кромера, см.: Blunt W. S. Secret History of the English Occupation of Egypt: Being a Personal Narrative of Events. New York: Alfred A. Knopf, 1922. Существует важное обсуждение темы противодействия египтян британскому правлению см.: Khouri M. A. Poetry and the Making of Modern Egypt, 1882–1922. Leiden: E. J. Brill, 1971.].
Кромер не скрывает, что восточные народы для него всегда были и остаются лишь человеческим материалом, которым он управлял в британских колониях. «Поскольку я всего лишь дипломат и администратор, чьим предметом изучения является человек, но с точки зрения управления им, – говорит Кромер, – я удовлетворюсь тем, что отмечу тот факт, что так или иначе восточный человек обычно действует, говорит и мыслит образом, прямо противоположным человеку европейскому»[188 - Cromer. Modern Egypt. 2. P. 164.]. Описания Кромера, конечно, частично основаны на непосредственном наблюдении, но иногда он ссылается на авторитеты ортодоксального ориентализма (в частности, на Эрнеста Ренана и Константе-на Франсуа Вольне[189 - Константен Франсуа Вольней (1757–1820) – французский просветитель, философ, ориенталист.]), чтобы подкрепить свою точку зрения. На эти авторитеты он также полагается, когда дело доходит до объяснения того, почему люди Востока таковы, каковы есть. Он не сомневается, что любое знание восточного человека подтвердит его взгляды, согласно которым, памятуя о его описании египтянина, озадаченного встречным вопросом, восточный человек признается заведомо виновным. Преступление состояло в том, что восточный человек был восточным, и это верный знак того, что такая тавтология была общепринятой настолько, что могла существовать даже без обращения к европейской логике[190 - Следует отметить, что «ориентализм» часто обвиняли в нарушении формальной логики.] или симметрии ума. Таким образом, любое отклонение от того, что считалось нормами восточного поведения, считалось неестественным; в последнем ежегодном докладе Кромера из Египта египетский национализм, соответственно, провозглашается «совершенно нестандартной идеей» и «растением экзотического, а не местного происхождения»[191 - Цит. по: Marlowe J. Cromer in Egypt. London: Elek Books, 1970. P. 271.].
Мы были бы неправы, я думаю, недооценив хранилище общепризнанных знаний, кодексы ориенталистской ортодоксии, на которые Кромер и Бальфур повсюду ссылаются в своих текстах и в своей общественно-политической деятельности. Утверждать, что ориентализм был рационализацией колониального правления – значит игнорировать ту степень, в которой ориентализм был обоснованием колониального правления, а не его оправданием постфактум. Люди всегда делили мир на области, имеющие реальные или воображаемые отличия друг от друга. Абсолютная демаркация между Востоком и Западом (East and West), которую Бальфур и Кромер так самодовольно принимают, создавалась годами, даже столетиями. Были, конечно, многочисленные путешествия и открытия, были торговые контакты и войны. Но важнее то, что с середины XVIII века в отношениях между Востоком и Западом существовало два главных элемента. Одним из них было нарастающее систематическое знание в Европе о Востоке, знание, подстегиваемое колониальным опытом, а также широко распространенным интересом к чуждому и необычному, задействованным развивающимися науками – этнологией, сравнительной анатомией, филологией и историей; более того, к этому систематическому знанию добавился существенный корпус текстов, созданных романистами, поэтами, переводчиками и талантливыми путешественниками. Другой особенностью отношений Европы и Востока было то, что Европа всегда находилась в положении силы, если не сказать господства. Эвфемизмы здесь невозможны. Правда, отношение сильного к слабому можно было бы замаскировать или смягчить, как это было, когда Бальфур признавал «величие» восточных цивилизаций. Но, по сути, отношения в политике, культуре и даже религии рассматривались – на Западе, поскольку именно это нас и интересует, – как отношения между партнером сильным и слабым.
Для того чтобы описать эти отношения, использовалось много определений: Бальфур и Кромер, как правило, использовали некоторые из них. Восточный человек иррационален, развратен (падший), инфантилен и «отличен» (different); тогда как европеец рационален, добродетелен, зрел и «нормален». Но способ оживить отношения состоял в повсеместном подчеркивании того факта, что восточный человек живет в другом, но тщательно организованном мире, мире с собственными национальными, культурными и эпистемологическими границами и принципами внутренней согласованности. Однако то, что делало мир Востока доступным для понимания и самобытным, было не результатом его собственных усилий, а скорее сложной серией искусных манипуляций, при помощи которых Запад определял Восток. Так оба аспекта культурных отношений, о которых я говорил, соединяются. Знание Востока, порожденное силой, в некотором смысле создает Восток, восточного человека и его мир. На языке Кромера и Бальфура восточный человек изображается как некто, кого судят (как на суде), кого изучают и описывают (как в учебной программе), кого наказывают (как в школе или тюрьме), кого изображают (как в пособии по зоологии). Дело в том, что в каждом из этих случаев восточный человек контролируется и репрезентируется господствующими структурами. Откуда они берутся?
Сила культуры – не то, что очень легко обсуждать, и одна из целей настоящей работы – проиллюстрировать, проанализировать и осмыслить ориентализм как проявление силы культуры. Другими словами, лучше не рисковать, давая обобщения о столь неопределенном и в то же время столь важном понятии, как сила культуры, пока не будет проанализировано достаточное количество материала. Но с самого начала можно сказать, раз уж речь идет о Западе XIX и XX веков, что существовало предположение, что Восток и всё, что на нем находится, если не в явном виде уступает Западу, то нуждается в корректирующем изучении. Восток виделся как бы на фоне классной комнаты, суда, тюрьмы, иллюстрированного пособия. Таким образом, ориентализм – это знание Востока, помещающее всё, имеющее отношение к Востоку, в класс, суд, тюрьму или учебник для исследования, суждения, наказания или управления.
В первые годы двадцатого века такие люди, как Бальфур и Кромер, могли говорить то, что они говорили, так, как они это делали, потому что традиция ориентализма, еще более ранняя, чем традиция XIX века, обеспечила их словарем, образами, речевыми оборотами и приемами, с помощью которых они это говорили. Тем не менее ориентализм был подкреплен твердым знанием, которое Европа, или Запад, буквально навязала значительной части земного шара. Период мощного прогресса в институциях и в наполнении ориентализма в точности совпадает с периодом беспрецедентной европейской экспансии; с 1815 по 1914 год европейские колониальные владения расширились примерно с 35 процентов поверхности земли до примерно 85 процентов[192 - Magdoff, Harry. Colonialism (1763 – c.1970). Encyclopaedia Britannica. 15th ed. 1974. P. 893–894. См. также: Fieldhouse D. K. The Colonial Empires: A Comparative Survey from the Eighteenth Century. N.Y.: Delacorte Press, 1967. P. 178.]