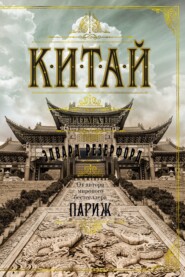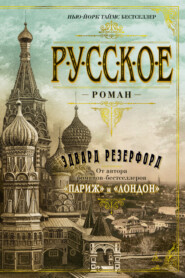По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Нью-Йорк
Автор
Серия
Год написания книги
2009
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В самом деле! – сердечно воскликнул он. – Вы должны отобедать с нами! В смысле, у нас, когда приедете в Бостон.
– Как любезно, – суховато отозвался его нью-йоркский кузен.
– Мы будем ждать… – заторопился продолжить Элиот, но чего именно он собрался ждать, так и осталось тайной.
Дверь распахнулась, и в комнату ввалился юный Джон Мастер.
Он прибыл не в лучшем виде. Окажись его рубашка такой же белой, как лицо, было бы легче. Но она была в грязи. Волосы всклокочены. Взгляд плавал по комнате, тщетно пытаясь собраться. Джона шатнуло. Он выглядел сонным.
– Боже правый, сэр… – произнес отец.
– Добрый вечер. – Джон как будто не слышал. – Я опоздал?
Затхлый пивной дух от рубашки и изо рта растекся по всей комнате от самого порога.
– Вон отсюда! Покиньте нас, сэр! – заорал Дирк Мастер, но Джон по-прежнему не обращал на него внимания.
– Ага… – Его взгляд остановился на Кейт, которой пришлось повернуться, так как он стоял сзади нее. – Мисс Кейт. – Он кивнул самому себе. – Моя кузина. Милая, славная мисс Кейт.
– Сэр? – переспросила она, едва ли зная, что сказать.
Но ей было незачем беспокоиться, благо кузена понесло. Он шагнул вперед, рискуя грохнуться на пол, но выпрямился, а затем врезался в спинку ее стула, за которую и схватился, чтобы устоять на ногах, после чего склонился через ее плечо.
– Какое милое платье, кузина! – воскликнул он. – Вы сегодня просто красавица! Да вы всегда прекрасны! Моя прекрасная кузина Кейт. Дайте я поцелую вам руку.
И он, перегнувшись через спинку, потянулся к ее руке. Тут-то его и вырвало.
На ее прическу, на плечо, руку и все ее платье в коричневую и белую клетку.
И продолжало тошнить, когда разъяренный отец поволок сына прочь, оставив за собой сцену некоторого конфуза.
Погожим августовским утром, чуть более прохладным, чем несколько дней назад, по Бостон-роуд катил маленький экипаж, увозивший Кейт и ее отца. Позади ударила пушка. Жители Нью-Йорка, нравилось это губернатору или нет, устроили официальный салют в честь Эндрю Гамильтона, который выехал в противоположную сторону – в Филадельфию.
– Ха! – удовлетворенно произнес отец. – Заслуженный салют. Приехать стоило, Кейт, несмотря на вчерашний досадный эпизод. Я искренне сожалею, дитя мое, что ты пострадала от такого непотребства.
– Я не в обиде, отец, – ответила Кейт. – Брата и сестер тоже, бывало, тошнило.
– Но не так, – возразил он твердо.
– Он молод, отец. По-моему, он стесняется.
– Тьфу! – бросил тот.
– Он не разонравился мне, – сказала она. – На самом деле…
– Нам больше незачем видеться с этими людьми, – решительно перебил ее отец.
И поскольку Бостон был далеко, а ее судьба находилась в отцовских руках, Кейт поняла, что больше никогда в жизни не увидит своего кузена Джона.
Когда над Нью-Йоркской бухтой разнесся пушечный грохот и старый Эндрю Гамильтон отбыл, горожане отпраздновали не только победу над продажным губернатором, но и нечто более важное. Элиот Мастер сказал сущую правду. Хотя суд над Зенгером не изменил закона, он показал всем будущим губернаторам, что жители Нью-Йорка и американских колоний вообще воспользуются, не мудрствуя лукаво, естественным правом говорить и писать все, что им вздумается. Этот суд не забыли. Он сделался вехой в истории Америки, и люди той эпохи правильно уловили, куда дует ветер.
Правда, в этом процессе была еще одна примечательная особенность.
Права, в которые верил Элиот Мастер, – права, предъявленные Эндрю Гамильтоном и осуществленные жюри, – проистекли из «общего закона» Англии. Именно англичане единственные в Европе казнили за тиранию своего короля, именно английский поэт Мильтон дал определение свободы прессы, именно английский философ Локк постулировал существование естественных прав человека. Люди, палившие из пушки, осознавали себя британцами и гордились этим.
И все-таки когда старый Гамильтон обратился к жюри, он высказал еще одно понравившееся им соображение. Древний закон, заявил он, мог быть хорош давным-давно в Англии, однако в Америке спустя века он может оказаться и дурным. Хотя никто особо не обсуждал его утверждение, семена были брошены. И эта идея пустила корни и распространилась по бескрайним просторам Америки.
Девушка из Филадельфии
1741 год
Паренек двигался осторожно. Был майский вечер. Пали тени, и всюду таилась угроза. На улицах, в домах. Знай он заранее о том, что происходит, то по прибытии действовал бы иначе. Но он разобрался лишь час назад, когда в таверне ему объяснил какой-то раб: «В Нью-Йорке ниггеру не сыскать безопасного места. Только не нынче. Будь осторожен».
Ему было пятнадцать лет, и если так пойдет дальше, то это будет худший год в его жизни.
Дела стали плохи, когда ему было десять. В том году умер его отец, а мать сошлась с другим и скрылась вместе с его братьями и сестрами. Он даже не знал, где они теперь. Он остался в Нью-Йорке с дедом, где старик держал таверну, куда часто заглядывали матросы. Они с дедом понимали друг друга. Оба любили и бухту, и корабли, и все морское. Быть может, сама судьба распорядилась при его рождении, когда родители нарекли его дедовым именем: Гудзон.
Но в этом году судьба оказалась жестокой. Старожилы не помнили такой холодной зимы. Бухта застыла. В последний день января в таверну на спор прикатил на коньках один малый. До его деревни было семьдесят миль на севере, и он пробежал их по замерзшей реке. Вся таверна проставила ему выпивку. Это был веселый день, но такой выдался только один. После этого ударили новые холода. Еды осталось мало. Дед заболел.
Затем дед умер и оставил его одного-одинешенька на всем белом свете. Пышных семейных похорон не было. Хоронили в ту зиму тихо. Явились соседи да завсегдатаи таверны, а после ему пришлось решать, как быть дальше.
Спасибо, что хоть выбор был прост. Перед кончиной деда у них состоялся разговор. Держать таверну ему было не по годам, да он и сам знал, чего по-настоящему хочет.
– Тебя тянет в море? – вздохнул старик. – Что ж, в твои годы мне хотелось того же. – И он назвал мальчику имена двух морских капитанов. – Они меня знают. Просто назовись, и о тебе позаботятся.
Тут-то и крылась ошибка. Он был слишком нетерпелив. От таверны он избавился быстро, так как помещение только арендовали. И в городе его больше ничто не держало. Поэтому в начале марта, едва переменилась погода, он решил тронуться в путь. Дед хранил свои скромные сбережения и немногочисленные ценности в сундучке. Гудзон отдал его на хранение лучшему другу деда – пекарю, который жил возле таверны. После этого он был свободен.
Капитанов не оказалось в порту, и он сговорился с другим, так что отбыл из Нью-Йорка семнадцатого числа, в день святого Патрика. Плавание прошло неплохо. Они достигли Ямайки, распродали груз и пустились в обратный путь, взяв курс на Подветренные острова[21 - Группа по большей части вулканических островов, образующая южную часть Малых Антильских островов у берегов Венесуэлы к западу от 64° з. д.]. Но там корабль пришлось ремонтировать. С Гудзоном расплатились, и он перешел на другой, направлявшийся вдоль побережья к Нью-Йорку и Бостону.
Там ему преподали урок. Капитан оказался горьким пьяницей. Они едва достигли Чесапика, а буря уже дважды чуть не потопила корабль. Команде не собирались платить до самого Бостона, но Гудзон еще до Нью-Йорка решил выйти из игры и сбежал с корабля. У него остались деньги за прошлое плавание, и он рассудил, что сумеет прожить в Нью-Йорке до прибытия одного из дедовых капитанов.
Нынешним утром он и удрал. Главным было несколько дней продержаться подальше от порта, пока не уйдет его теперешний корабль со своим запойным хозяином. В конце концов, он был свободным человеком, пускай и негром.
В середине дня он отправился к пекарю. Там он застал пекарского сынка, парнишку своих же лет. Тот почему-то посмотрел на него странно. Он спросил пекаря, но мальчишка замотал головой:
– Он уже месяц как помер. Всеми делами ведает мать.
Гудзон выразил соболезнования и объяснил, что пришел за сундучком. Но паренек лишь пожал плечами:
– Не знаю никакого сундучка.
Гудзону показалось, что он врет. Он спросил, где найти вдову пекаря. Ушла, будет завтра. А можно поискать сундучок? Нет. И тут случилось престранное дело. Особой дружбы между ними не было, но они знали друг друга почти с пеленок. Мальчишка взял и набросился на него, словно прошлого не существовало.
– На твоем месте, ниггер, – сказал он злобно, – я бы держался поосторожнее.
И махнул, чтобы Гудзон шел прочь. Гудзон, входя в таверну, все еще пребывал в изумлении, но встретил раба, который растолковал ему положение дел.
Лучшим выходом было отправиться в порт, но он не хотел натолкнуться на капитана, который, должно быть, уже разыскивал его. В худшем случае можно покинуть город и заночевать под открытым небом. Но ему не хотелось этого делать. Его всерьез беспокоила мысль, что семейство пекаря присвоило его деньги.
– Как любезно, – суховато отозвался его нью-йоркский кузен.
– Мы будем ждать… – заторопился продолжить Элиот, но чего именно он собрался ждать, так и осталось тайной.
Дверь распахнулась, и в комнату ввалился юный Джон Мастер.
Он прибыл не в лучшем виде. Окажись его рубашка такой же белой, как лицо, было бы легче. Но она была в грязи. Волосы всклокочены. Взгляд плавал по комнате, тщетно пытаясь собраться. Джона шатнуло. Он выглядел сонным.
– Боже правый, сэр… – произнес отец.
– Добрый вечер. – Джон как будто не слышал. – Я опоздал?
Затхлый пивной дух от рубашки и изо рта растекся по всей комнате от самого порога.
– Вон отсюда! Покиньте нас, сэр! – заорал Дирк Мастер, но Джон по-прежнему не обращал на него внимания.
– Ага… – Его взгляд остановился на Кейт, которой пришлось повернуться, так как он стоял сзади нее. – Мисс Кейт. – Он кивнул самому себе. – Моя кузина. Милая, славная мисс Кейт.
– Сэр? – переспросила она, едва ли зная, что сказать.
Но ей было незачем беспокоиться, благо кузена понесло. Он шагнул вперед, рискуя грохнуться на пол, но выпрямился, а затем врезался в спинку ее стула, за которую и схватился, чтобы устоять на ногах, после чего склонился через ее плечо.
– Какое милое платье, кузина! – воскликнул он. – Вы сегодня просто красавица! Да вы всегда прекрасны! Моя прекрасная кузина Кейт. Дайте я поцелую вам руку.
И он, перегнувшись через спинку, потянулся к ее руке. Тут-то его и вырвало.
На ее прическу, на плечо, руку и все ее платье в коричневую и белую клетку.
И продолжало тошнить, когда разъяренный отец поволок сына прочь, оставив за собой сцену некоторого конфуза.
Погожим августовским утром, чуть более прохладным, чем несколько дней назад, по Бостон-роуд катил маленький экипаж, увозивший Кейт и ее отца. Позади ударила пушка. Жители Нью-Йорка, нравилось это губернатору или нет, устроили официальный салют в честь Эндрю Гамильтона, который выехал в противоположную сторону – в Филадельфию.
– Ха! – удовлетворенно произнес отец. – Заслуженный салют. Приехать стоило, Кейт, несмотря на вчерашний досадный эпизод. Я искренне сожалею, дитя мое, что ты пострадала от такого непотребства.
– Я не в обиде, отец, – ответила Кейт. – Брата и сестер тоже, бывало, тошнило.
– Но не так, – возразил он твердо.
– Он молод, отец. По-моему, он стесняется.
– Тьфу! – бросил тот.
– Он не разонравился мне, – сказала она. – На самом деле…
– Нам больше незачем видеться с этими людьми, – решительно перебил ее отец.
И поскольку Бостон был далеко, а ее судьба находилась в отцовских руках, Кейт поняла, что больше никогда в жизни не увидит своего кузена Джона.
Когда над Нью-Йоркской бухтой разнесся пушечный грохот и старый Эндрю Гамильтон отбыл, горожане отпраздновали не только победу над продажным губернатором, но и нечто более важное. Элиот Мастер сказал сущую правду. Хотя суд над Зенгером не изменил закона, он показал всем будущим губернаторам, что жители Нью-Йорка и американских колоний вообще воспользуются, не мудрствуя лукаво, естественным правом говорить и писать все, что им вздумается. Этот суд не забыли. Он сделался вехой в истории Америки, и люди той эпохи правильно уловили, куда дует ветер.
Правда, в этом процессе была еще одна примечательная особенность.
Права, в которые верил Элиот Мастер, – права, предъявленные Эндрю Гамильтоном и осуществленные жюри, – проистекли из «общего закона» Англии. Именно англичане единственные в Европе казнили за тиранию своего короля, именно английский поэт Мильтон дал определение свободы прессы, именно английский философ Локк постулировал существование естественных прав человека. Люди, палившие из пушки, осознавали себя британцами и гордились этим.
И все-таки когда старый Гамильтон обратился к жюри, он высказал еще одно понравившееся им соображение. Древний закон, заявил он, мог быть хорош давным-давно в Англии, однако в Америке спустя века он может оказаться и дурным. Хотя никто особо не обсуждал его утверждение, семена были брошены. И эта идея пустила корни и распространилась по бескрайним просторам Америки.
Девушка из Филадельфии
1741 год
Паренек двигался осторожно. Был майский вечер. Пали тени, и всюду таилась угроза. На улицах, в домах. Знай он заранее о том, что происходит, то по прибытии действовал бы иначе. Но он разобрался лишь час назад, когда в таверне ему объяснил какой-то раб: «В Нью-Йорке ниггеру не сыскать безопасного места. Только не нынче. Будь осторожен».
Ему было пятнадцать лет, и если так пойдет дальше, то это будет худший год в его жизни.
Дела стали плохи, когда ему было десять. В том году умер его отец, а мать сошлась с другим и скрылась вместе с его братьями и сестрами. Он даже не знал, где они теперь. Он остался в Нью-Йорке с дедом, где старик держал таверну, куда часто заглядывали матросы. Они с дедом понимали друг друга. Оба любили и бухту, и корабли, и все морское. Быть может, сама судьба распорядилась при его рождении, когда родители нарекли его дедовым именем: Гудзон.
Но в этом году судьба оказалась жестокой. Старожилы не помнили такой холодной зимы. Бухта застыла. В последний день января в таверну на спор прикатил на коньках один малый. До его деревни было семьдесят миль на севере, и он пробежал их по замерзшей реке. Вся таверна проставила ему выпивку. Это был веселый день, но такой выдался только один. После этого ударили новые холода. Еды осталось мало. Дед заболел.
Затем дед умер и оставил его одного-одинешенька на всем белом свете. Пышных семейных похорон не было. Хоронили в ту зиму тихо. Явились соседи да завсегдатаи таверны, а после ему пришлось решать, как быть дальше.
Спасибо, что хоть выбор был прост. Перед кончиной деда у них состоялся разговор. Держать таверну ему было не по годам, да он и сам знал, чего по-настоящему хочет.
– Тебя тянет в море? – вздохнул старик. – Что ж, в твои годы мне хотелось того же. – И он назвал мальчику имена двух морских капитанов. – Они меня знают. Просто назовись, и о тебе позаботятся.
Тут-то и крылась ошибка. Он был слишком нетерпелив. От таверны он избавился быстро, так как помещение только арендовали. И в городе его больше ничто не держало. Поэтому в начале марта, едва переменилась погода, он решил тронуться в путь. Дед хранил свои скромные сбережения и немногочисленные ценности в сундучке. Гудзон отдал его на хранение лучшему другу деда – пекарю, который жил возле таверны. После этого он был свободен.
Капитанов не оказалось в порту, и он сговорился с другим, так что отбыл из Нью-Йорка семнадцатого числа, в день святого Патрика. Плавание прошло неплохо. Они достигли Ямайки, распродали груз и пустились в обратный путь, взяв курс на Подветренные острова[21 - Группа по большей части вулканических островов, образующая южную часть Малых Антильских островов у берегов Венесуэлы к западу от 64° з. д.]. Но там корабль пришлось ремонтировать. С Гудзоном расплатились, и он перешел на другой, направлявшийся вдоль побережья к Нью-Йорку и Бостону.
Там ему преподали урок. Капитан оказался горьким пьяницей. Они едва достигли Чесапика, а буря уже дважды чуть не потопила корабль. Команде не собирались платить до самого Бостона, но Гудзон еще до Нью-Йорка решил выйти из игры и сбежал с корабля. У него остались деньги за прошлое плавание, и он рассудил, что сумеет прожить в Нью-Йорке до прибытия одного из дедовых капитанов.
Нынешним утром он и удрал. Главным было несколько дней продержаться подальше от порта, пока не уйдет его теперешний корабль со своим запойным хозяином. В конце концов, он был свободным человеком, пускай и негром.
В середине дня он отправился к пекарю. Там он застал пекарского сынка, парнишку своих же лет. Тот почему-то посмотрел на него странно. Он спросил пекаря, но мальчишка замотал головой:
– Он уже месяц как помер. Всеми делами ведает мать.
Гудзон выразил соболезнования и объяснил, что пришел за сундучком. Но паренек лишь пожал плечами:
– Не знаю никакого сундучка.
Гудзону показалось, что он врет. Он спросил, где найти вдову пекаря. Ушла, будет завтра. А можно поискать сундучок? Нет. И тут случилось престранное дело. Особой дружбы между ними не было, но они знали друг друга почти с пеленок. Мальчишка взял и набросился на него, словно прошлого не существовало.
– На твоем месте, ниггер, – сказал он злобно, – я бы держался поосторожнее.
И махнул, чтобы Гудзон шел прочь. Гудзон, входя в таверну, все еще пребывал в изумлении, но встретил раба, который растолковал ему положение дел.
Лучшим выходом было отправиться в порт, но он не хотел натолкнуться на капитана, который, должно быть, уже разыскивал его. В худшем случае можно покинуть город и заночевать под открытым небом. Но ему не хотелось этого делать. Его всерьез беспокоила мысль, что семейство пекаря присвоило его деньги.