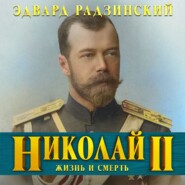По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Женившись – не забудьте развестись (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как дела на работе? – спрашивал он, думая о другом.
– Все в порядке, милый, – говорила она, тоже думая о другом.
– Чудесно, – машинально отвечал он и добавлял, чтобы как-то продолжить беседу: – Да, ты позвонила технику-смотрителю? Надо сказать, чтобы починили батареи…
– Как же ты не заметил? Батареи уже теплые, – отвечала она раздраженно, но только чуть-чуть раздраженно.
– A-а, да-да, милая… Ты слышала, Женька Левшина разводится с Генычем.
– Бедная Женька!
– Бедный Геныч…
…При этом они пили чай и читали.
Им было нетрудно читать, пить чай и одновременно разговаривать, потому что они говорили друг другу ерунду. Теперь они могли разговаривать друг с другом и делать при этом что угодно, даже петь могли.
Эго было бы вполне логично, если бы они пили чай, читали и при этом еще пели хором:
«Бедная Женька! Бедный Геныч! Они разводятся. А нам так хорошо, нам восхитительно! У нас батареи теплые».
А за стулом у каждого из них стояли бы огромные ларцы для складывания туда мыслей, тех настоящих мыслей, о которых они теперь уже не рассказывали друг другу.
«Святому месту пусту не быть». Человеку надо кому-то рассказывать свои главные мысли. Иначе человек одинок.
…Он был слишком занят в то время (пуск установки и все безумие, которое с этим связано), а она уже была свободна.
«Кроха», как они его звали между собой, родился и стал называться мальчиком Алешкой. Вначале мальчик Алешка благополучно жил у ее матери-педагога. А она поступала на работу. В том месте, куда она приходила по распределению, уже не было единицы. Но ей неожиданно повезло: создавался новый институт и она очень удачно туда устроилась.
Она стала ходить на работу. А потом у нее появились какие-то новые глаза. Мечтательные глаза. Она ожидала. Он увидел первый раз эти глаза, когда его привезли на два часа домой из Серпухова. Он быстро, как всегда, «срубал обед», а она, как всегда, успела опустить только ложку в суп… Он хотел, как всегда, извиниться за свою торопливость и посмотрел на нее, чтобы сделать это… и тогда он увидел ее новые глаза. И он испугался…
Потом мальчик Алеша переехал к ним.
Кронов досрочно защитил кандидатскую, им дали квартиру.
В общем, даже в Швеции были бы в восторге от такого оборота дела!
В тот год он бешено работал, и работа его радовала.
Настоящее исследование – это грязный, долгий, неромантический труд. Там много пота и тяжелых утренних часов, когда теряешь веру в себя и не можешь сбросить ноги с постели – так все постыло и скучно. Но если получается, тогда живешь лихорадочно и великолепны ночные часы: в голову приходят особенные мысли, любишь всех людей на свете за сладость труда своего, и тело становится сильным, и появляется чертовская уверенность во всем.
В это время мальчик Алеша учился ходить: на стуле лежали два смехотворных комочка – его теплые носки.
А сам он в «домашних ботинках» с пугающей быстротой перемещался из комнаты в комнату – он жил; при этом он нагибался, распрямлялся, подскакивал, садился на пол, опять поднимался и все время сопел. Иногда слышался тугой шлепок. Это его маленькое чудное тельце падало на пол. Тогда сопенье замирало, и в мире наступала тишина. Мальчик Алеша не плакал. Он ждал, пока Кронов в ужасе вбежит в комнату, где, недвижно распластавшись, Алеша лежал на полу. И уж тогда раздавался его облегченный плач. Он плакал Кронову. Никто не хочет плакать просто так, есть смысл только плакать для кого-то!
А ее в это время не было. Ее все чаще не бывало по вечерам.
Наступил тот день.
Он никогда не изменял ей. Им было хорошо вдвоем, и он точно знал: что, если он ей изменит, так хорошо им уже не будет. Он был ее, и только ее во всем мире, и она была его.
Все другое было неправильно, дикость. Она просыпалась рядом с ним утром, она говорила с ним. Это был ее голос. Голос его женщины. Его жены. Все другие голоса на этом месте были невероятны.
Кронов знал, когда это случилось.
В тот день она пришла домой какая-то странная. Она молча села в углу в кресло.
Он спросил у нее что-то, она не ответила. Она будто окаменела.
– Что с тобой?
– Ничего, – ответила она очень спокойно, – ни-че-го.
Он хотел спросить еще о чем-то, но зазвонил телефон.
Звонили из другого города. Там Григулис работал на установке и просил, чтобы Кронова немедленно вызвали.
Тут она вышла из своего ужасного молчания и истерически стала просить его не уезжать. Она, наверное, это читала – Островский, «Гроза», школьная программа по литературе: «Муж Тиша уезжать собрался, а жена Катерина собралась ему изменять и просит не уезжать мужа Тишу…»
Это очень удобно просить человека остаться, когда ты знаешь, что он не может остаться. Это сразу решает проблему. Ведь уехав, он становится нечутким, а это означает «вне закона». Итак, прощальное объятие, скупая женская слеза. Впрочем, женские слезы не бывают скупыми. Значит, обильная женская слеза, дверь захлопнулась, и наверняка последовала ее фраза, полная женской печали: «Как всегда, он ничего не понял». И теперь уже – никаких обязательств!
При встрече можно потом сказать изумленному болвану: «Я так просила тебя тогда не уезжать! Но ты уехал!»
…Он вернулся через неделю.
Квартира была какая-то пустая, нежилая, летняя. Мальчика Алешу без него увезли на дачу к ее маме. И она вся была какая-то странная и совсем чужая, как квартира…
– Ты хочешь есть?
– Нет, – ответил он почему-то, хотя хотел есть.
– А то я не ждала тебя… Я сейчас не готовлю…
Они помолчали.
– Да. Я хочу дать тебе адрес мамы… Если решишь повидать Алешу.
– Зачем мне адрес? Ведь мы поедем туда вместе? – спросил он. И вдруг понял, что она сейчас ответит.
– Нет, – сказала она, – мы не поедем вместе…
«Сейчас она скажет» – подумал он.
– Я люблю другого человека… – Она сказала эту жуткую глупую фразу.
Кронову стало странно. Ему даже не было горько тогда. Просто ему казалось, что он все это уже слышал, что все это уже было и она уже когда-то говорила ему все это.
Он встал и, засунув руки в карманы, каким-то странным шагом, прыгая с каблука на носок, начал ходить по комнате. Потом она заговорила. Она, видно, приготовила свою речь.