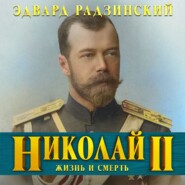По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Иосиф Сталин. Начало
Серия
Год написания книги
2012
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Этого говорить не стоило! Рыцарь Камо подпрыгнул тотчас, причем удивительно высоко, в прыжке схватил котика и, вернувшись на нашу грешную землю, гордо протянул его Надюше – несчастного, жалобно мяукающего:
– Возьми, дорогая, если нравится.
К сожалению, хозяева котика были против. Из дома выбежал толстый бюргер с социал-демократической карикатуры. За ним – жена в папильотках. Поднялся крик, обещали вызвать полицию. Этого мне, обвешанному револьверами, совсем не хотелось. Но Камо… Помню, с каким изумлением он смотрел на кричавших. Он сказал бюргеру:
– Почему кричишь? Мне понравился твой котик, я взял. Если нравится что-нибудь у меня – тоже бери. Вот нравится тебе мой пиджак? Бери. Я что – против?
В припадке обычной своей щедрости Камо совсем забыл про пистолеты под пиджаком. Но, к счастью, я успел схватить его за руку, и мы ограничились извинениями и возвращением котика.
Камо был простодушен до глупости и хитер до мудрости.
Вскоре мы благополучно вернулись в Грузию с оружием для нашего маленького отряда.
Деньги было решено захватить, когда их повезут из почтовой конторы в отделение Государственного банка. Наши люди в банке сообщили: сопровождать деньги будет усиленная охрана – пять казаков, трое городовых, три солдата-стрелка и банковские служащие. Поедут на двух экипажах, повезут двести пятьдесят тысяч рублей в одном мешке.
Это передал нам Коба. Он был в курсе всего, как обычно. Сообщил он и печальное: о готовящемся нападении узнали. Полиция усилила охрану вокруг почтового отделения. Но, к счастью, они не знали главного – где и когда мы нападем…
Нас было всего два десятка. Но у нас имелся филигранно проработанный план Кобы. Правда, в самом начале операция едва не сорвалась. Динамит очень капризен; делая бомбу, надо быть предельно осторожным. Камо же поторопился, и бомба взорвалась. Результат: его помощник убит, у Камо повреждена кисть руки, начал дергаться глаз. Но железный человек сказал:
– Пустяки!
И он наступил – наш главный день, 26 июня 1907 года.
Одиннадцать сорок утра. Полуденный жар привычно плавил город. Коба сидел на площади, в ресторане «Тилипучури» и, как полководец, готовился наблюдать за боем. С ним сидели трое боевиков – резерв.
Я стоял с бомбой на выезде с площади в сторону Солдатского рынка. Как обычно, Коба позаботился об алиби. На этот раз – о моем. За несколько минут до нападения он вызвал хозяина ресторана и шумно и долго скандалил – ругал за плохое вино.
Ближе к полудню Эриванская площадь в Тифлисе всегда полна народа. Пестрая, веселая южная толпа, среди которой разгуливали наши боевики…
Еще в половине одиннадцатого две наши женщины, следившие за почтой, подали условный знак. Это означало, что кассир и счетовод Государственного банка получили на почте деньги и грузят их в фаэтон.
Фаэтон сопровождали два вооруженных стрелка, двое других уселись во втором фаэтоне, который должен был следовать за первым.
Оба фаэтона окружил казачий конвой. После чего сей поезд неторопливо тронулся.
В полдень он проехал вблизи дворца наместника и выехал на Эриванскую площадь. Одновременно на площадь вкатился наш фаэтон, в котором сидел мужчина в форме офицера полиции (Камо).
Поезд с деньгами уже начал сворачивать с площади, когда сверху, с крыши дома князя Сумбатова, наш товарищ швырнул в него разрушительную бомбу. Взрыв получился страшной силы, вылетели все окна во дворце князя и во всех домах в округе. Одновременно началась пальба с тротуаров, в фаэтоны полетели бомбы. Трое казаков конвоя пали замертво, двое городовых улеглись рядом… По тротуару ползали, стонали раненые прохожие. На площади началась паника. Поезд поневоле остановился. И тогда в огне, в дыму наши боевики ринулись в фаэтон. Вышвырнули оттуда обоих стрелков… Но больше там ничего не было. К счастью, Камо понял: ошиблись! Остановили не тот фаэтон. В это время испуганные кони уже мчали прочь с площади второй фаэтон – с деньгами. Тогда Камо, изображая офицера полиции, матерясь и стреляя, погнал свой экипаж за ним.
Коба не зря поставил меня на выезде с площади. Упряжка с деньгами мчала прямо ко мне. И тогда я бросился наперерез и швырнул бомбу под ноги лошадям. Помню: попадали лошади, попадали прохожие… Меня отбросило на мостовую. В грохоте, в дыму Камо и наши ребята ринулись в остановившийся экипаж. Выкинули на мостовую несопротивлявшихся, обезумевших от ужаса счетовода и кассира. Вынесли злосчастный мешок. В нем оказались почти все двести пятьдесят тысяч… Не хватало только девяти тысяч, их должны были везти завтра. Передавая мешок из рук в руки, в считаные секунды мы перебросили его в фаэтон Камо. Туда же швырнули контуженного меня – на мешок с деньгами… И помчались прочь. Никогда не забыть мне зверское лицо Камо и то, как он стрелял в упор в появившегося перед фаэтоном казака…
Падает навзничь казак, оторопело наблюдают городовые…
И в следующий миг все исчезло – и мы и фаэтон. Растворились в жарком воздухе…
Добычу сначала хранили у меня под обивкой дивана. Потом переправили за границу нашим. Эти деньги и стали западнею для многих из них.
Купюры были крупные, по пятьсот рублей, и по наивности (неопытности) мы не предполагали, что номера их переписаны. Номера тотчас были сообщены русским и европейским банкам. И наши товарищи попадались при попытке разменять их за границей.
Попался в Берлине и сам Камо…
Русская полиция потребовала его выдачи. Если бы его выдали, наверняка – петля. И вот тогда он совершил самый фантастический из своих подвигов. Симулировал безумие. Он сотворил невозможное. Его проверяли берлинские психиатры, тогда – лучшие в мире. Три года он водил их за нос. Три года они верили и лечили его. И наконец, решив, что он безнадежный, выдали его России для… дальнейшего лечения. Он и здесь симулировал безумие столь же успешно. А пока его лечили, он… бежал!
Я увидел Камо в Баку после побега. Он очень изменился – поседел, кожа как-то сморщилась, постарел лет на двадцать. Но смеяться не разучился. Он рассказал мне:
– Они, конечно, свое дело знают, науку свою знают… Но вот кавказцев не знают. Уверяю тебя: им всякий кавказец покажется сумасшедшим! Потому что он свободен. Помнишь, как на меня вылупился тот немец с кошкой. Он не мог понять, что я взял его кота потому, что я свободный в своих желаниях, в своей доброте. – Помолчав, он добавил: – И еще! Есть такое понятие – «революционная ярость». Я не понимал раньше, брат, что оно значит. А вот тогда, стоя перед докторами, понял! Сытые стоят, уверенные в себе! А я все вспоминал, все видел тебя на мешке с деньгами, Эриванскую площадь и убитых, и кричащих раненых! И пришел в ярость, думаю: так вас разэтак! Я вас перехитрю! И перехитрил!..
И я тоже часто вспоминал: уносившийся фаэтон, мертвые казаки, стонущие, изуродованные прохожие… Кровь…
Много крови всюду, где появляется мой друг Коба.
В то время из-за этих проклятых похищенных денег попался и я. Я закупал на них запалы для бомб. После моего провала было решено оставшиеся купюры – почти сто пятьдесят тысяч – уничтожить. Не принесли нам пользы эти деньги в крови…
Из тюрьмы я бежал. Приехав в Грузию, узнал: Коба влюбился.
Любовь и смерть
Это случилось на дне рождения Алеши Сванидзе. Алеша, красавец сван с голубыми глазами, был теперь большевик, подпольщик, наш товарищ по партии.
В тот вечер рядом с ним стоял узкоплечий, тщедушный, какой-то ущербный Коба. Как же нелепо и жалко он выглядел в сравнении с Алешей. Да и с другими джигитами, пришедшими тогда на праздник… Все мы были в щегольских черкесках, а Коба – по-прежнему в косоворотке, пиджаке явно с чужого плеча. На голове – вся та же нелепая турецкая феска.
Присутствие стольких щеголей объяснялось просто. Красота – семейная черта Сванидзе. И сейчас все взгляды были обращены в угол комнаты. Коба глядел туда же – горящими глазами.
Там на стуле сидела она – Като. Екатерина Сванидзе, сестра Алеши. Сидела чинно, скромно, как и полагается хорошей грузинской девушке.
– Я хочу жениться на ней! Она мне будет настоящей женой, Фудзи… – Все это он шептал мне, догадываясь, конечно, что и я был влюблен в нее. Но ему, как всегда, это было безразлично. – Как же она хороша! – продолжал шептать Коба. – И, слава богу, не похожа на наших блядей-товарищей. – Это он о свободомыслящих революционерках, скитавшихся по нелегальным квартирам и заодно по постелям революционеров. – Она настоящая! Женюсь! Иди, знакомь меня с нею…
Я хотел возразить, но… Но повел его к ней!
…Он подчинил ее сразу, как всех нас. Впоследствии Папулия Орджоникидзе кому-то объяснял: «Да, маленький, да, рябой. Но зато в нем есть эти чары… любимого у нас, кавказцев, романтического разбойника, грабящего богатых во имя бедных. Наш национальный герой – это всегда Робин Гуд».
Думаю, он не прав. Екатерина была набожная девушка, и рассказы о делах Кобы могли ее только напугать. Коба подчинил ее не делами, а глазами. В его взгляде, клянусь, таился некий, если определить упрощенно, «магнетизм, пока неизвестный науке». Во всяком случае, уже через неделю бедная красавица смотрела на него такими же собачьими, преданными глазами, как все мы, давно ставшие его верными псами…
Когда он предложил ей стать его женой, она тотчас, без колебаний, счастливо согласилась, но… Она была так же религиозна, как его мать. И мучилась, не смея попросить его. Но он сам предложил: «Будем венчаться».
Представляю ее счастье, когда он сказал ей это.
Думаю, это было последним ее счастьем…
Мне он объявил кратко: «Венчаемся завтра. Ты придешь, но об этом никому ни слова. Никто не должен знать. Будешь только ты и Алеша».
Еще бы! Церковный брак считался позором для революционера. Я не помню другого случая, чтобы революционер-интеллигент не только женился на верующей, но еще и венчался с ней.
Но, убивая и влача безбытное существование подпольщика, мой друг Коба мечтал о настоящей семье. О семье, которой был лишен в детстве. Создать такую семью могла только невинная, религиозная девушка. И он нашел ее… на ее беду.
Коба хотел, чтобы все было, «как у людей». Он решил быть нарядным на венчании. Мы с ним одного роста и одного сложения. Я предложил ему свою весьма элегантную «тройку», но он предпочел пиджак куда великолепнее. Этот пиджак был у третьего «мушкетера» – у нашего друга детства огромного Пети. (Петя в это время стал известным борцом и сильно разбогател.)
В маленькой церквушке они стояли перед старым священником: высокая красавица со счастливыми глазами и маленький рябой Коба в роскошном пиджаке, который был ему уморительно велик.
– Возьми, дорогая, если нравится.
К сожалению, хозяева котика были против. Из дома выбежал толстый бюргер с социал-демократической карикатуры. За ним – жена в папильотках. Поднялся крик, обещали вызвать полицию. Этого мне, обвешанному револьверами, совсем не хотелось. Но Камо… Помню, с каким изумлением он смотрел на кричавших. Он сказал бюргеру:
– Почему кричишь? Мне понравился твой котик, я взял. Если нравится что-нибудь у меня – тоже бери. Вот нравится тебе мой пиджак? Бери. Я что – против?
В припадке обычной своей щедрости Камо совсем забыл про пистолеты под пиджаком. Но, к счастью, я успел схватить его за руку, и мы ограничились извинениями и возвращением котика.
Камо был простодушен до глупости и хитер до мудрости.
Вскоре мы благополучно вернулись в Грузию с оружием для нашего маленького отряда.
Деньги было решено захватить, когда их повезут из почтовой конторы в отделение Государственного банка. Наши люди в банке сообщили: сопровождать деньги будет усиленная охрана – пять казаков, трое городовых, три солдата-стрелка и банковские служащие. Поедут на двух экипажах, повезут двести пятьдесят тысяч рублей в одном мешке.
Это передал нам Коба. Он был в курсе всего, как обычно. Сообщил он и печальное: о готовящемся нападении узнали. Полиция усилила охрану вокруг почтового отделения. Но, к счастью, они не знали главного – где и когда мы нападем…
Нас было всего два десятка. Но у нас имелся филигранно проработанный план Кобы. Правда, в самом начале операция едва не сорвалась. Динамит очень капризен; делая бомбу, надо быть предельно осторожным. Камо же поторопился, и бомба взорвалась. Результат: его помощник убит, у Камо повреждена кисть руки, начал дергаться глаз. Но железный человек сказал:
– Пустяки!
И он наступил – наш главный день, 26 июня 1907 года.
Одиннадцать сорок утра. Полуденный жар привычно плавил город. Коба сидел на площади, в ресторане «Тилипучури» и, как полководец, готовился наблюдать за боем. С ним сидели трое боевиков – резерв.
Я стоял с бомбой на выезде с площади в сторону Солдатского рынка. Как обычно, Коба позаботился об алиби. На этот раз – о моем. За несколько минут до нападения он вызвал хозяина ресторана и шумно и долго скандалил – ругал за плохое вино.
Ближе к полудню Эриванская площадь в Тифлисе всегда полна народа. Пестрая, веселая южная толпа, среди которой разгуливали наши боевики…
Еще в половине одиннадцатого две наши женщины, следившие за почтой, подали условный знак. Это означало, что кассир и счетовод Государственного банка получили на почте деньги и грузят их в фаэтон.
Фаэтон сопровождали два вооруженных стрелка, двое других уселись во втором фаэтоне, который должен был следовать за первым.
Оба фаэтона окружил казачий конвой. После чего сей поезд неторопливо тронулся.
В полдень он проехал вблизи дворца наместника и выехал на Эриванскую площадь. Одновременно на площадь вкатился наш фаэтон, в котором сидел мужчина в форме офицера полиции (Камо).
Поезд с деньгами уже начал сворачивать с площади, когда сверху, с крыши дома князя Сумбатова, наш товарищ швырнул в него разрушительную бомбу. Взрыв получился страшной силы, вылетели все окна во дворце князя и во всех домах в округе. Одновременно началась пальба с тротуаров, в фаэтоны полетели бомбы. Трое казаков конвоя пали замертво, двое городовых улеглись рядом… По тротуару ползали, стонали раненые прохожие. На площади началась паника. Поезд поневоле остановился. И тогда в огне, в дыму наши боевики ринулись в фаэтон. Вышвырнули оттуда обоих стрелков… Но больше там ничего не было. К счастью, Камо понял: ошиблись! Остановили не тот фаэтон. В это время испуганные кони уже мчали прочь с площади второй фаэтон – с деньгами. Тогда Камо, изображая офицера полиции, матерясь и стреляя, погнал свой экипаж за ним.
Коба не зря поставил меня на выезде с площади. Упряжка с деньгами мчала прямо ко мне. И тогда я бросился наперерез и швырнул бомбу под ноги лошадям. Помню: попадали лошади, попадали прохожие… Меня отбросило на мостовую. В грохоте, в дыму Камо и наши ребята ринулись в остановившийся экипаж. Выкинули на мостовую несопротивлявшихся, обезумевших от ужаса счетовода и кассира. Вынесли злосчастный мешок. В нем оказались почти все двести пятьдесят тысяч… Не хватало только девяти тысяч, их должны были везти завтра. Передавая мешок из рук в руки, в считаные секунды мы перебросили его в фаэтон Камо. Туда же швырнули контуженного меня – на мешок с деньгами… И помчались прочь. Никогда не забыть мне зверское лицо Камо и то, как он стрелял в упор в появившегося перед фаэтоном казака…
Падает навзничь казак, оторопело наблюдают городовые…
И в следующий миг все исчезло – и мы и фаэтон. Растворились в жарком воздухе…
Добычу сначала хранили у меня под обивкой дивана. Потом переправили за границу нашим. Эти деньги и стали западнею для многих из них.
Купюры были крупные, по пятьсот рублей, и по наивности (неопытности) мы не предполагали, что номера их переписаны. Номера тотчас были сообщены русским и европейским банкам. И наши товарищи попадались при попытке разменять их за границей.
Попался в Берлине и сам Камо…
Русская полиция потребовала его выдачи. Если бы его выдали, наверняка – петля. И вот тогда он совершил самый фантастический из своих подвигов. Симулировал безумие. Он сотворил невозможное. Его проверяли берлинские психиатры, тогда – лучшие в мире. Три года он водил их за нос. Три года они верили и лечили его. И наконец, решив, что он безнадежный, выдали его России для… дальнейшего лечения. Он и здесь симулировал безумие столь же успешно. А пока его лечили, он… бежал!
Я увидел Камо в Баку после побега. Он очень изменился – поседел, кожа как-то сморщилась, постарел лет на двадцать. Но смеяться не разучился. Он рассказал мне:
– Они, конечно, свое дело знают, науку свою знают… Но вот кавказцев не знают. Уверяю тебя: им всякий кавказец покажется сумасшедшим! Потому что он свободен. Помнишь, как на меня вылупился тот немец с кошкой. Он не мог понять, что я взял его кота потому, что я свободный в своих желаниях, в своей доброте. – Помолчав, он добавил: – И еще! Есть такое понятие – «революционная ярость». Я не понимал раньше, брат, что оно значит. А вот тогда, стоя перед докторами, понял! Сытые стоят, уверенные в себе! А я все вспоминал, все видел тебя на мешке с деньгами, Эриванскую площадь и убитых, и кричащих раненых! И пришел в ярость, думаю: так вас разэтак! Я вас перехитрю! И перехитрил!..
И я тоже часто вспоминал: уносившийся фаэтон, мертвые казаки, стонущие, изуродованные прохожие… Кровь…
Много крови всюду, где появляется мой друг Коба.
В то время из-за этих проклятых похищенных денег попался и я. Я закупал на них запалы для бомб. После моего провала было решено оставшиеся купюры – почти сто пятьдесят тысяч – уничтожить. Не принесли нам пользы эти деньги в крови…
Из тюрьмы я бежал. Приехав в Грузию, узнал: Коба влюбился.
Любовь и смерть
Это случилось на дне рождения Алеши Сванидзе. Алеша, красавец сван с голубыми глазами, был теперь большевик, подпольщик, наш товарищ по партии.
В тот вечер рядом с ним стоял узкоплечий, тщедушный, какой-то ущербный Коба. Как же нелепо и жалко он выглядел в сравнении с Алешей. Да и с другими джигитами, пришедшими тогда на праздник… Все мы были в щегольских черкесках, а Коба – по-прежнему в косоворотке, пиджаке явно с чужого плеча. На голове – вся та же нелепая турецкая феска.
Присутствие стольких щеголей объяснялось просто. Красота – семейная черта Сванидзе. И сейчас все взгляды были обращены в угол комнаты. Коба глядел туда же – горящими глазами.
Там на стуле сидела она – Като. Екатерина Сванидзе, сестра Алеши. Сидела чинно, скромно, как и полагается хорошей грузинской девушке.
– Я хочу жениться на ней! Она мне будет настоящей женой, Фудзи… – Все это он шептал мне, догадываясь, конечно, что и я был влюблен в нее. Но ему, как всегда, это было безразлично. – Как же она хороша! – продолжал шептать Коба. – И, слава богу, не похожа на наших блядей-товарищей. – Это он о свободомыслящих революционерках, скитавшихся по нелегальным квартирам и заодно по постелям революционеров. – Она настоящая! Женюсь! Иди, знакомь меня с нею…
Я хотел возразить, но… Но повел его к ней!
…Он подчинил ее сразу, как всех нас. Впоследствии Папулия Орджоникидзе кому-то объяснял: «Да, маленький, да, рябой. Но зато в нем есть эти чары… любимого у нас, кавказцев, романтического разбойника, грабящего богатых во имя бедных. Наш национальный герой – это всегда Робин Гуд».
Думаю, он не прав. Екатерина была набожная девушка, и рассказы о делах Кобы могли ее только напугать. Коба подчинил ее не делами, а глазами. В его взгляде, клянусь, таился некий, если определить упрощенно, «магнетизм, пока неизвестный науке». Во всяком случае, уже через неделю бедная красавица смотрела на него такими же собачьими, преданными глазами, как все мы, давно ставшие его верными псами…
Когда он предложил ей стать его женой, она тотчас, без колебаний, счастливо согласилась, но… Она была так же религиозна, как его мать. И мучилась, не смея попросить его. Но он сам предложил: «Будем венчаться».
Представляю ее счастье, когда он сказал ей это.
Думаю, это было последним ее счастьем…
Мне он объявил кратко: «Венчаемся завтра. Ты придешь, но об этом никому ни слова. Никто не должен знать. Будешь только ты и Алеша».
Еще бы! Церковный брак считался позором для революционера. Я не помню другого случая, чтобы революционер-интеллигент не только женился на верующей, но еще и венчался с ней.
Но, убивая и влача безбытное существование подпольщика, мой друг Коба мечтал о настоящей семье. О семье, которой был лишен в детстве. Создать такую семью могла только невинная, религиозная девушка. И он нашел ее… на ее беду.
Коба хотел, чтобы все было, «как у людей». Он решил быть нарядным на венчании. Мы с ним одного роста и одного сложения. Я предложил ему свою весьма элегантную «тройку», но он предпочел пиджак куда великолепнее. Этот пиджак был у третьего «мушкетера» – у нашего друга детства огромного Пети. (Петя в это время стал известным борцом и сильно разбогател.)
В маленькой церквушке они стояли перед старым священником: высокая красавица со счастливыми глазами и маленький рябой Коба в роскошном пиджаке, который был ему уморительно велик.