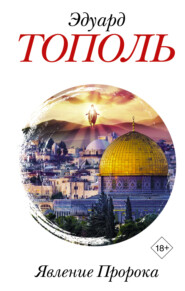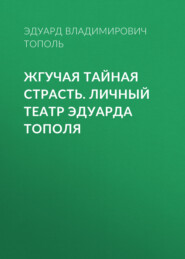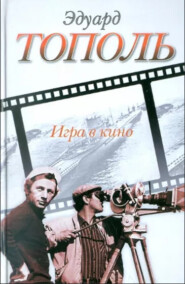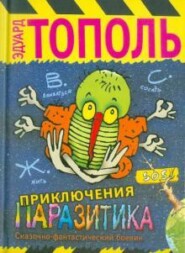По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Красный газ
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я пошла в мастерскую. Зыбкая дощатая времянка без отопления, в щели задувает тундровый ветер, станки стоят прямо на мерзлоте, на досках, а всякое железо, деревянные бруски и какие-то детали валяются на полу, что, конечно, является нарушением инструкции. Из таких брусков Толмачев и выточил ролики для побега – себе же на погибель. И самое примечательное было то, что именно над его, Толмачева, токарным станком висел стандартный тюремный лозунг:
«НА СВОБОДУ – С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ!»
Из мастерской майор Оруджев, который тенью ходил за мной якобы по долгу службы, а на самом деле потому, что меховые брюки увеличивали мою задницу до размеров, нестерпимых для его осетинского темперамента, повел меня через зону в офицерскую столовую на обед. Проходя мимо злосчастной мачты-опоры высоковольтной линии, он в сердцах пнул ногой по основанию вышки и сказал зло:
– Худя Вэнокан во всем виноват, паскуда ненецкая!
Я удивленно взглянула на майора. Худя Вэнокан был следователем уголовного розыска в Салехарде. Как он, единственный в крае ненец-следователь, может быть виноват в побеге трех зеков из этого лагеря?
5
Я знала Худю Вэнокана. Я была на пятом курсе юридического факультета МГУ, когда весь университет облетела легенда о том, что какой-то простой ненец-оленевод с побережья Ледовитого океана чуть ли не на оленях, но, во всяком случае, в оленьей малице[1 - Малица – верхняя одежда ненцев, имеющая покрой просторной, до колен, одевающейся через голову рубахи. Шьется из оленьих шкур шерстью внутрь. К рукавам пришиваются рукавицы. Иногда малицу украшают узорами из шкурок молодых оленей.] вместо пальто прикатил в Москву и поступил к нам на юридический факультет. Сам! Не вне конкурса, не по брони Ямало-Ненецкого национального округа и не по блату, конечно, – откуда блат у заполярного ненца! – а по общему конкурсу! «Еще один самоубийца», – подумала я тогда, потому что за четыре года моей учебы в МГУ у нас было девять случаев самоубийств студентов из Заполярья: чукчей, эвенков, ненцев и хантов. Они, эти эскимосы и эскимоски, не выдерживают стресса большого города и – что поразительно – кончают жизнь одним и тем же способом: выбрасываются из окон высотного общежития на Ленинских горах. «Еще один самоубийца», – подумала я, когда услышала историю поступления в МГУ этого «дикого вундеркинда». И забыла о нем, конечно. Но через несколько дней в студенческой столовке я обратила внимание, что на меня постоянно пялится какой-то скуластый и узкоглазый парень – не то японец, не то кореец. Ну, иностранцев у нас – пол-университета, но западные иностранцы на нашем юрфаке не учатся – на кой им черт изучать советское право, если у них там совсем другие юридические законы. Короче, этот парень оказался не корейцем и не японцем, а Худей Вэноканом, «вундеркиндом с Ямала». О том, что он втюрился в меня, скоро узнала вся моя группа, а потом и весь наш курс: Худя торчал в студенческой столовке именно тогда, когда у нашего курса был обеденный перерыв или окно между лекциями. Он сидел обычно в дальнем углу, пил чай – пять, шесть, десять стаканов, – потел в своем новом мешковатом костюме советского производства и ждал моего появления. Тогда на пятом курсе мне было 22 года, и, говоря без скромности, я была в порядке: голубоглазая блондинка с косой до пояса и с фигурой Анук Эме, валютная девочка. Во всяком случае, когда я шла по улице, не было такого, чтобы к тротуару рядом со мной не причалили «Лада» или «Волга» и хозяин машины – какой-нибудь 30–40-летний киношник или фотограф – не предложил составить ему компанию в Дом кино на закрытый просмотр западного фильма.
Но когда вы заканчиваете последний курс юридического факультета, у вас нет времени для романов или даже для короткого флирта. И мне было плевать на то, что какой-то там заполярный ненец, выучив наизусть расписание нашей группы, поджидает меня, потея от чая, в столовой и пялится на меня, пока я наспех глотаю жидкие студенческие щи или жесткую, как подошва, котлету. Но очень скоро он перенес свой дозорный пункт из столовой в библиотеку, и вот это меня уже взбесило. Я не могла зубрить советское право или конспектировать «Основы уголовного законодательства», когда на меня в упор смотрели из-за соседнего стола узкие серые глаза этого ненца. А вы смогли бы? Правда, стоило мне поднять на него взгляд, как он тут же опускал глаза к своей книге, но только на время, пока я на него смотрела. А потом он опять рассматривал меня в упор. Наконец я не выдержала. Я встала и подошла к нему. Он, конечно, уже не смотрел на меня, он делал вид, что читает «О „двойном“ подчинении и законности», В.И. Ленин, 33-й том. Я подошла к нему и сказала: «Слушай! В чем дело?» Вся библиотека повернулась в нашу сторону, и все смотрели на меня, все, кроме него. Он, этот ненец, сидел, опустив глаза на том Ленина, словно глухой. Только его короткая шея багровела над воротником его москвошвеевского костюма. Тогда я выхватила этот 33-й том Ленина у него из-под глаз, шмякнула этим томом по его столу и повторила: «Ну? Ты долго будешь пялиться на меня?»
Самое поразительное, что он даже не вздрогнул от этого удара, не пошевелился и так и не поднял на меня глаза. Я стояла над ним как дура, ожидая ответа, а он сидел, замерев, глядя в стол. Я повернулась и ушла из библиотеки.
На другой день его не было ни в столовой, ни в читальном зале. И на третий – тоже. И на четвертый. Потом мне кто-то сказал, что его уже четыре дня нет ни на лекциях, ни в общежитии и что декан уже заявил о его исчезновении в милицию. Я, правду сказать, струхнула, решив, что еще, чего доброго, этот ненец тоже покончил жизнь самоубийством. И ходила сама не своя. А через два дня милиция случайно нашла этого Худю в лесу за Измайловским парком. Он в своей оленьей малице спал там прямо на земле, под сосной.
Когда мужчина из-за вас шесть дней спит в лесу на голой земле, то, даже если этот мужчина – ненец, вы не проходите мимо этого факта просто так, как ни в чем не бывало. А уж тем более – ваши друзья и приятели. Конечно, никто мне ничего не говорил, но все смотрели на меня так, как смотрят на хирурга, который во время операции аппендицита вырезал больному весь желудок. Короче, когда милиция привезла этого Худю из леса в общагу, я собралась с духом и пошла в мужскую зону нашего общежития.
Любопытно, что знаменитая примета Москвы – небоскреб студенческого общежития МГУ на Ленинских горах, в проект которого Сталин собственной рукой дорисовал башни в стиле «а-ля рюс» и шпиль со звездой, делится внутри на зоны и блоки, совсем как в лагере. Я прошла мимо вахтера у лифта в мужскую зону, поднялась на четвертый этаж – зона «Г» юридического факультета – и направилась по коридору к блоку № 404. Блок – это жилая ячейка, состоящая из двух раздельных комнат по две койки в каждой и с общими для этих двух комнат туалетом и душевой. Я шла в блок № 404, где одну из комнат занимал Худя Вэнокан и еще какой-то сибирский нацмен, полагая увидеть там тощего, изможденного и обросшего Худю, которого надо выводить из любовного столбняка, а то он завтра вдруг возьмет и выбросится из окна. Конечно, я не собиралась заводить с ним роман, но у меня была идея пригласить его на субботний концерт в нашем студенческом клубе МГУ.
Худя открыл мне дверь. Он не был ни заросший, ни изможденный. И на нем не было малицы или какой-нибудь другой ненецкой национальной одежды. На нем были спортивная майка и темно-синие спортивные брюки. И его серые узкие глаза смотрели на меня спокойно, без испуга.
– Привет! – сказала я слегка развязно. – Можно войти?
Он пропустил меня в свою комнату. Это была чистая комната, без обычного для комнат мужской зоны бардака и фотографий голых девок на стенах. Две койки вдоль стен, шкаф, этажерка с юридической литературой и стол с настольной лампой – вполне спартанский вид. На столе лежала груда книг, открытый том «Основы классификации преступлений» и конспект. Рядом – недопитый стакан крепкого чая.
– А мне натрепались, что ты на полу спишь… – сказала я просто так, чтобы начать с чего-то разговор. – Я читала, что это очень полезно. Даже какая-то знаменитая балерина спала на полу…
– А теперь не сплю, однако. А заставляю себя спать на кровати.
– Заставляешь?
– Да, у нас в чумах нет кроватей, и я не привык к ним. А теперь приучаю себя, однако…
– Понятно… – Я не знала, о чем говорить дальше. – Слушай, у меня есть мои старые конспекты по этим «Основам классификации…» Хочешь?
– Спасибо, однако, – сказал он. – Но я должен сам все прочесть и законспектировать.
– А почему ты все время говоришь «однако»?
Он улыбнулся впервые за все это время:
– Так привык. У нас все так говорят, на Севере…
– Ага… Слушай, у меня есть билеты на эстрадный концерт у нас в клубе, на эту субботу. Ты хочешь пойти?
Он смотрел мне прямо в глаза, и я вдруг подумала, что это и есть тот случай, когда говорят: «Смотрит как кролик на удава». В его глазах был испуг, страх. Но уже в следующий миг он сказал все тем же ровным голосом:
– Извини, однако. Я не могу ходить на концерт. Я очень отстал по всем предметам, а скоро семинар и зачеты.
– Да? – удивилась я. Вот уж не ожидала, что он мне откажет! Он, этот ненец, – мне! – Ну… – протянула я, уже не зная, что мне делать дальше. – Ну… как хочешь… Тогда я пошла…
Более унизительного и идиотского положения у меня в жизни не было! Он даже не предложил мне сесть! И чтобы хоть как-то отомстить за этот свой конфуз, я сказала, выходя из его комнаты:
– А что ты делал в лесу?
– Я лечился… – ответил он спокойно.
– От чего?
– От Москвы и… от тебя, однако.
Я поняла, что он имел в виду, но усмехнулась:
– Разве я заразная?
– Нет, но ты… – Он засмеялся, а потом посмотрел мне в глаза: – Я приехал в Москву, чтобы учиться на следователя, а не влюбляться, однако.
– Правильно, все равно это бессмысленно, – сказала я мстительно. – Ну и как? Ты вылечился от меня?
Он все смотрел мне в глаза. Это был долгий и пристальный взгляд человека, который решил выдержать молча любые пытки. Я повернулась и пошла прочь по коридору, нарочно чуть покачивая бедрами и отбросив своим коронным жестом косу на плечо.
Он выдержал и это. Он просиживал сутками в библиотеке, но уже не ради меня. При моем появлении он вставал и переходил в другой читальный зал. Через месяц зимняя сессия, и в списке Ленинских стипендиатов я увидела его фамилию – он сдал все экзамены на «отлично». Я не знаю, делали ли профессора скидку на его ненецкое происхождение, но кто-то из доброхотов рассказал мне, как Худя одолевал науки: когда от усталости мозги переставали воспринимать всю эту муть, которую зубрят первокурсники, он бился головой о стену и приговаривал: «Нет, я заставлю тебя работать! Работай, однако». А сдав экзамены, снова ушел в лес и пять дней спал там в своей малице прямо на снегу – отходил от перенапряжения…
Через год, когда в университете были вывешены списки распределения на работу и против моей фамилии стояло «Тюменская область», у нас с Худей состоялось формальное примирение: он подошел ко мне в столовой и сказал: «Здравствуй. Я узнал, что ты едешь работать в нашу Тюменскую область. Я очень рад. Это тебе. Пригодится, однако!» И он протянул мне две книги: «Русско-ненецкий словарь» и «Ненецкие сказки и былины». «Спасибо, – сказала я. – Может быть, теперь ты возьмешь мои старые конспекты?» Он улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Я сам должен все учить, однако…»
С тех пор прошло четыре года. Пять месяцев назад, уже в Уренгое, я узнала, что Худя Вэнокан вернулся на Ямал, в Салехард, с «красным» дипломом отличника МГУ и с… двухлетней дочкой. От столицы Ямала Салехарда до нашего Уренгоя – рукой подать, 500 километров, но за эти пять месяцев мы ни разу не виделись с Худей. Он стал следователем Салехардского угро, а я была следователем Уренгойского, но милицейская сплетня быстрей телефона донесла до нас точные сведения о том, что дочка у Худи – от красивенькой неночки, поступившей в МГУ с помощью ее папаши, заведующего отделом по работе с ненцами и хантами при Тюменском обкоме партии. Худя женился на ней, когда был на третьем курсе, но девочка оказалась, как говорится, «слаба на передок» – быстро пошла по рукам, а точнее – по студиям и постелям московских художников, охочих до всякой туземной экзотики… Через год она бросила и МГУ, и мужа с двухмесячным ребенком на руках и укатила с очередным художником куда-то на черноморский курорт, а потом ее след простыл даже для ее родного отца… Как Худя выходил в общаге МГУ свою малышку и при этом жил и учился на 70 рублей Ленинской стипендии в месяц – только Бог знает, но, так или иначе, он появился этим летом в Салехарде, тут же получил должность следователя в Салехардском угро, и вот теперь начальник охраны лагеря № РС-549 майор Оруджев почему-то считает, что именно Худя виноват в побеге зеков из лагеря.
6
Я удивленно смотрела на майора Оруджева, даже спросила:
– Худя? Каким образом?
– А очень просто! – сказал Оруджев. – Он тут был дней двадцать назад. Зеки еще бараки себе ремонтировали – мы тогда только пришли сюда из Надыма. А этот Худя прилетел из Салехарда допрашивать кого-то из зеков по старым делам. И вот тут он стоял и при зеках брякнул начальнику лагеря: «Какой, говорит, дурак это место под лагерь выбрал, если линия передачи через лагерь проходит? С этой вышки, говорит, можно по проводу за зону выскочить. Лебедь, говорит, ждет весны, а зек ждет свободы!» И накаркал, паскуда! Зеки услышали его и на ус намотали!
– Нехорошо, товарищ майор. С больной головы на здоровую сваливаете. Прошляпили побег, а оказывается, наш уголовный розыск даже предупреждал вас. Похоже, только осетриной вы теперь от нас не отделаетесь!
Оруджев уставился на меня своими темными выпуклыми глазами: сообразил, что зря про Вэнокана брякнул, и гадал теперь, смеюсь я над ним или действительно требую еще что-нибудь, кроме осетрины. От этой непривычной мыслительной деятельности пелена мужланской похоти исчезла из его темных глаз, и они действительно стали красивы – в обрамлении черных ресниц, чуть опушенных инеем, оседающим от дыхания на мех его шапки, на усы и ресницы.
– Ладно! – сжалилась я. – Незачем тут на морозе торчать, у меня сейчас нос отвалится…
В разговоре с армейскими и милицейскими чинами я стараюсь сразу перейти на грубый тон, это остужает их первые горячечные мысли о моей принадлежности к женскому полу. Не всегда, правда… И Оруджев больше относился к исключениям, чем к правилу. Уже через несколько минут в офицерской столовой, когда расконвоированный зек-повар подал нам уху из нельмы и шашлык из осетрины, Оруджев приволок из своего «балка» бутылку армянского коньяка и бутылку розового шампанского «Цимлянское» (пить коньяк с розовым шампанским – высший шик в Заполярье), и в его красивых глазах снова плавала прозрачная бархатистость похоти, мощные плечи играли под мундиром, а грудь он выпячивал так, что, казалось, латунные пуговицы мундира вот-вот сорвутся с петелек.
«А ничего мужик, – подумала я, – просто призовой рысак для постельных скачек…»