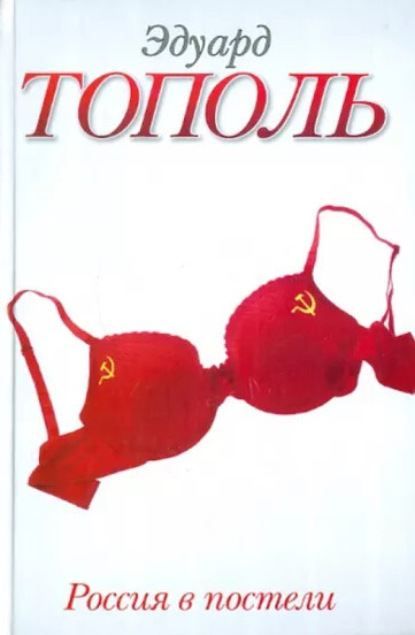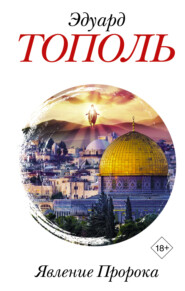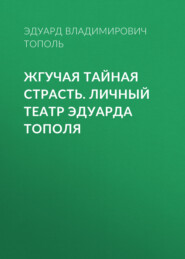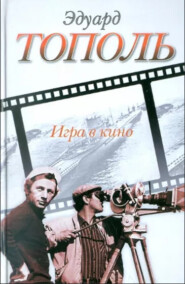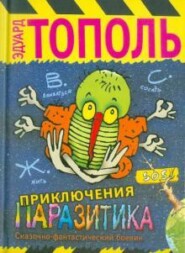По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Россия в постели
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Такой картины начертать.
Чтоб это чувствовать, то должно
Самим собою испытать.
А. Полежаев, поэма «Сашка»
Кто-нибудь из вас имел идеальную русскую женщину? В самом центре России, в городе Горьком, что стоит над широким разливом знаменитой русской реки Волги, я, говоря по-английски, «занимался» любовью с той, которую до сих пор считаю идеалом русской женщины. В русском языке нет такого осторожного словосочетания, как «заниматься любовью», и смысл этого термина передают в России более грубыми словами, из которых самые цензурные – «иметь» и «трахаться». Итак, в самом центре России, в городе Горьком, я «трахнул», как я считаю, идеальную русскую женщину…
Конечно, многие могут спросить: а что это такое – «идеальная русская женщина»? Можете ли вы показать русскую Мэрилин Монро или Софи Лорен? К сожалению – нет. Конечно, в русском кинематографе есть несколько красоток в духе русских народных сказок, но даже если переспать со всеми ними сразу, к идеалу русской женщины не приблизишься, поверьте мне как телевизионному администратору.
И тем не менее я трахнул идеальную русскую женщину. Это случилось в городе Горьком, в гостинице «Москва». Мы – я и 50-летний телережиссер – стояли в вестибюле гостиницы у дверей парикмахерской. Был ленивый летний день, мы только что прилетели в Горький на выбор натуры, и оператор с художником уехали осматривать окрестности города, а мы с режиссером без дела болтались в гостинице. Он легко и уверенно кадрил 28-летнюю грудастую парикмахершу из гостиничной парикмахерской, их вечернее свидание было уже решено, и вот-вот должен был возникнуть вопрос: нет ли у нее подруги для меня?
И вдруг в глубине гостиничного коридора возникло и двинулось к выходу из отеля то, что заставило нас обоих просто окаменеть на месте. 17-летнее существо с глубокими голубыми глазами, в мини-юбочке, натуральная блондинка с тонкой талией и гитарным овалом бедер, на высоких ногах, с открытой незагорелой шеей – свежая, как Наташа Ростова, юная, как Лолита, и с грудью, как у молодой Софи Лорен, – даже мы, киноволки, обалдели от этого чуда и не знали, на что раньше смотреть – на грудь, на ноги, на бедра… Где?! В душной пыли провинциального Горького, в старой, дореволюционных времен купеческой гостинице, где в номерах с плюшевой мебелью теперь останавливаются партийные чиновники и прочая советская бонза, – и вдруг вот это юное, васильковое существо с телом, рвущимся сквозь короткое обтягивающее платье!
Я смотрел на нее завороженно, как ребенком смотрел диснеевскую «Белоснежку». Я смотрел, как она шла по коридору к выходу, – она несла свою юность, свою проснувшуюся или просыпающуюся женственность, как высокий бокал, переполненный томно-игристым и обжигающе-медовым напитком.
– Вот это да! – сказал я режиссеру, когда за ней захлопнулась дверь.
– Идиот! Что же ты стоишь? – сказал он. – Марш за ней! Ты должен трахнуть ее сегодня же! Эх, мне бы твои годы! Еще администратор называется!..
Ему не пришлось меня долго уговаривать. Я выскочил на улицу и увидел, что она еще недалеко ушла.
О том, как в России кадрят девочек на улице, можно написать целую главу, но я думаю, что она не прибавит ничего нового к известной американской книге «Как снять девушку». Женщины везде женщины, и самый верный и универсальный способ знакомства – это юмор, умение заставить незнакомую женщину улыбнуться. Недавно в каком-то журнале я прочел интервью с парнем, который каждый день кадрит новую девочку в «Блумингдейле» и «Саксе» на Пятой авеню. Он перетрахал уже несколько сотен американок, шведок, немок, японок, испанок и т. д., и все они, по его словам, открывались одним ключом – шуткой при знакомстве. В его перечне не было только русских. Но я тут же вспомнил своего приятеля, победителя многих телевизионных конкурсов юмора в знаменитой в СССР в 70-е годы, а затем прикрытой властями телепрограмме «Клуб веселых и находчивых». Этот мой приятель ежедневно отправлялся в ГУМ – советский эквивалент «Сакса» или «Блумингдейла» на Красной площади – и каждый день кадрил там очередную провинциальную красотку, приехавшую в Москву в поисках импортного нижнего белья или импортной косметики. Он, как и его американский коллега, тоже перетрахал сотни русских, украинок, латышек, киргизок, армянок и прочих представительниц восьмидесятинационального Союза Совреспублик, и все они, по его словам, сдавались ему после второй или третьей шутки.
Ну а представителям волшебного слова «кино» даже и шутить не надо при знакомстве с девушкой. Причастность к телевидению и кинематографу дает вам такую отвагу (или наглость), что вы легко вступаете в разговор с любой, зная наверняка, что при слове «кино» она уже никогда не пошлет вас к чертовой матери. Соперничать с кинематографическими и телеловеласами в России могут только иностранцы, любая русская женщина «тает» от французского или английского акцента…
Итак, я выскочил из гостиницы, догнал удаляющуюся на высоких стройных ногах Белоснежку и уже через пять минут узнал, что Люба Платочкина (даже фамилия у нее была замечательная, от слова «платочек») – настоящая сибирячка, из далекого алтайского городка Рубцовска, и приехала в город Горький поступать в педагогическое училище. Тут вы должны оценить размеры этой скромности – при ее лице принцессы из старых русских сказок, при ее фигуре из лучших западных фильмов она решила стать школьной учительницей и выбрала себе даже не столичный педагогический институт в Москве или на худой случай в Ленинграде, а провинциальное Горьковское педагогическое училище!
– Я хочу учить детей русскому языку и литературе, – сказала она. – А вы действительно работаете на телевидении? Правда?
Я заверил ее, что правда.
– А вот я пишу песни. Стихи и песни, – вдруг сказала она. – Можно, я их вам спою и почитаю? Только вы мне честно скажете – это совсем бездарно или не совсем? Хорошо?
Нужно ли говорить, что я согласился?
В тот же вечер она пришла ко мне в номер, чтобы спеть мне свои песни. И даже принесла с собой гитару.
Конечно, я был уверен, что песни и стихи у этой девочки будут безграмотные и бездарные, что в таком теле не может быть никакого таланта, кроме свежего женского обаяния, но я уже заранее был готов терпеть оскомину плохих стихов и ее гитару, и, наверно, я бы вытерпел любой, самый занудный инструмент вплоть до зубоврачебной машины, лишь бы потом, после этой профессиональной «консультации», перейти к главному «лакомству».
Каково же было мое удивление, когда она приятно низким, полным контральто запела удивительно чистые, почти профессионально написанные лирические баллады в духе Бернса или Уитмена! Там были даже запахи, в этих стихах, – запахи сибирских цветов, алтайских горных трав, там были шум реки и глубина неба. Право, она хорошо сочиняла и хорошо пела.
Конечно, мы пили при этом хорошее вино, ели мороженое и фрукты – уж я-то подготовился к этому вечеру! К тому же у меня был прекрасный двухкомнатный номер люкс в старинном русском купеческом стиле – с роялем, с картинами на стенах, с просторной мягкой мебелью. Но чем больше мы говорили с Любой о ее стихах и песнях, тем, казалось мне, я все дальше удалялся от своей первоначальной задачи соблазнить ее. Словно я ушел из той зоны, где мужчина и женщина чувствуют друг в друге самца и самку, и перешел в какую-то другую область – бесполую.
Между тем время шло – десять часов, одиннадцать, двенадцать… Трижды звонил мне в номер мой режиссер, он уже трахнул парикмахершу, отпустил ее домой к мужу и теперь изнывал от безделья и интересовался моими успехами: сколько палок я уже кинул? Кажется, эти вопросы заставляли меня даже краснеть, и я зло обрывал режиссера – бросал трубку и возвращался… к стихам!
Да, весь мой опыт ловеласа, бабника, трахальщика вдруг куда-то исчез, и я мялся на месте, буксовал в поэзии, боясь шагнуть за зону литературы. Правда, вся эта беседа уже шла без света – мы ведь встретились засветло, да так и не включили свет, хотя давно стемнело. И в этом было, конечно, тайное лукавство нашей литературной игры. Свет уличного фонаря освещал через окно мой номер. Люба сидела лицом к окну, и я видел в полумраке ее темно-васильковые глаза, белые влажные зубы и сумасшедший вырез ее легкого платьица, в котором двумя матово-белыми алтайскими холмами дышала ее грудь. А когда она брала гитару и закидывала ногу на ногу, ее мягкие, с ямочками, колени отсвечивали в полумраке дразнящей белизной, тут мое сердце обмирало от желания.
По счастью, я сидел спиной к свету, и она не видела моего пылающего лица. «Черт ее знает – девственница она или женщина?» – гадал я. В России вы никогда не можете быть уверены в намерениях женщины, даже если она по своей воле пришла вечером к вам в гостиничный номер или в вашу квартиру. Взрослая на вид женщина может оказаться девственницей или ханжой – изнывая от желания, умирая от похоти, она ни за что не снимет трусики. И наоборот – четырнадцатилетняя соседка может зайти к вам якобы за солью или за книжкой, и, пока вы отвернетесь, она уже будет сидеть на вашей кровати, глядя на вас вопросительно взрослыми глазами…
После двенадцати, когда уже кончилась вторая бутылка вина, песни, стихи и, как пустой ручей, иссякла вся мировая литература, стало ясно, что дальше тянуть нельзя. Я встал, подошел к дивану, на котором она устало сидела с гитарой в руке, и наклонился к ней.
Боже мой! Кажется, никогда в жизни я не погружался в такие мягко-нежные, упруго-теплые, вишнево-сладкие губы! Я задохнулся сразу, на первом поцелуе. Если можно так сказать, я просто тут же морально кончил. Ей было неполных 18 лет, а мне тридцать шесть, но в эти секунды я стал ребенком и был им всю эту волшебно-пряную ночь. Не я обнимал ее, а она меня, не я посадил ее на колени, а она – да, да! – она усадила меня к себе на колени и стала целовать… Боже мой, я и сейчас, через четыре года, помню запах свежего молока, сена, клевера, вкус голубики – от ее тела, кожи, губ, зубов. Я становился все меньше и меньше, все младше и младше на этих мягко-упругих коленях, на этой еще прикрытой платьем груди. И только мой Младший Брат рвался сквозь брюки совершенно по-взрослому.
Мягким движением она показала мне, что хочет встать. Я нехотя оторвался от ее губ, сел рядом с ней, а она встала и вдруг одним простым и естественным движением, будто взмахом крыльев, сняла с себя платье. Да, просто вспорхнули руки снизу вверх и сняли платье, и теперь она стояла передо мной в двух узких полосках – трусики и лифчик, но и они исчезли после пары легких взмахов рук – исчезли так естественно и с такой простотой, как дети раздеваются в детском саду.
Господи, на этой странице в третий, наверное, раз призываю Тебя в свидетели! Это было как волшебное видение в свете желтого уличного фонаря – ее высокие стройные ноги, курчаво-темный лобок, белый живот, лира ее бедер, высокая талия и полуторакилограммовая грудь, на которую она уронила тяжелые, прежде взятые в узел волосы.
– Я хочу у тебя остаться, – сказала она. – Можно?
Представляете, она еще спрашивала! Но похоже, ответ она уже и сама прочла на моем лице, ведь теперь я сидел лицом к уличному фонарю, к свету. А она вдруг опустилась передо мной на колени, легким жестом коснулась моих бедер и приказала встать, беглым движением пальцев распахнула мою ширинку и, преодолевая сопротивление стоящего дыбом Младшего Брата, мягко спустила мои штаны вместе с трусами. При этом мой вздыбленный Младший Брат качнулся и упрямо уставился ей в лицо, как откатное орудие, как артиллерийская пушка уж не знаю какого калибра. (Когда вот так, в упор, хочешь бабу, кажется, что твой Младший Брат самого невероятного калибра, гаубица да и только, а после, когда дело сделано, видишь вдруг, что у тебя просто зажигалка или в лучшем случае дамский пистолет…)
– Дорогой мой, не томись! Милый… – Она, Люба, гладила меня по моим ногам и бедрам. Не я ее, обратите внимание, не я гладил ее по ее сказочным бедрам, а она меня! Гладила, успокаивая нервную дурацкую дрожь и приближаясь своими вишнево-жаркими губами к персикообразной головке моего Младшего Брата.
О, это касание влажных губ, это медленное прикосновение и отнятие рта, этот легкий пробег упругого, жаркого, дразняще-влажного языка по всему стволу вашего Младшего Брата, как будто пианист в одно касание пробежал по клавиатуре нежными пальцами, как будто великий скрипач быстро и легко провел смычком по всему грифу, и струны вздрогнули предчувствием большого концерта!
Люба Платочкина, алтайский подснежник, сибирская Белоснежка, провинциальное чудо – до чего же нежно, заботливо, я бы даже сказал – преданно исполняла она увертюру. Она не сосала, нет! Это вульгарное слово абсолютно не подходит! Потому что масса женщин действительно просто сосет, зная понаслышке, ориентируясь по этому самому слову, что надо делать. Нет, Любаша, Любочка Платочкина не сосала! Она обволакивала моего Брата влажной мякотью языка, щек, носа и горла. Даже заглатывая его, даже убирая его в себя целиком до яичек, она была нежно, мягко, обволакивающе заботлива, а потом, перехватив воздух и сглотнув слюну, она встряхивала головой, отбрасывая волосы за спину, и снова мягко, любовно и нежно обсасывала Брата своим язычком, постепенно погружая его в себя все глубже, глубже…
Когда сейчас, из-за этого письменного стола, я смотрю в ту ночь и вижу самого себя, стоящего без штанов в полосе света от уличного фонаря, с закрытыми глазами, обхватившего руками шелково-струящиеся волосы и голову Любы Платочкиной, прижимающего ее голову к своему Младшему Брату, когда я вижу сейчас эту почти скульптурную картину, я просто завидую самому себе – себе тогдашнему. Люба быстро и легко освободила меня от первого напора дурной спермы, и сделала это чисто, спокойно, почти, я бы сказал, по-матерински или как медсестра. Когда фонтан спермы рванулся из моего нутра в ее горло, она не взбрыкнулась, не отшатнулась, а стойко приняла в себя весь, наверно, двухсотграммовый заряд. Тут – вовсе не ради хвастовства, а только чтобы подчеркнуть самоотверженность Любы Платочкиной – я должен сказать, что мой Младший Брат отличается чрезмерно высокой производительностью спермы. Конечно, у меня нет возможности сравнивать, но большинство моих женщин прямо говорят мне, что такого количества спермы, какое при каждой эрекции извергает мой Младший Брат, им еще видеть не приходилось. И потому даже профессиональные минетчицы часто пасуют, когда им приходится глотать эти фонтаны. Но Люба выдержала! Она проглотила все и еще не сразу отняла свой рот, а медленно, почти незаметно, даже чуть-чуть подсасывая и облизывая языком моего опустошившегося Братишку, исторгла его из своего рта… Я нагнулся и поцеловал ее в глаза и в солено-влажные губы…
Теперь позвольте на время прервать эти воспоминания. Я сказал, что трахнул в ту ночь идеал русской женщины. И я уверен в этом до сих пор. Не только потому, что сибирячка Люба Платочкина была красива, как царевна из русских сказок, не только потому, что ее тело пахло голубикой русских лесов, и не потому, что в ее песнях журчали алтайские реки, – нет! А потому, что, имея все это, имея все, чтобы быть суперзвездой, она была застенчиво-скромна, удивительно заботлива ко мне, пожилому тертому мерзавцу, она была со мной – я не боюсь этого слова – как мать. Не за деньги, не за протекцию на московское телевидение, ни за что – просто я ей понравился самую малость хотя бы тем, что не лез к ней сразу за пазуху, не хватал за грудь, а слушал ее стихи и песни… И вот я хочу вас спросить: да знаете ли вы, что это такое – «настоящая русская женщина»? Кто это? Анна Каренина? Наташа Ростова? Соня Мармеладова? Жена великого русского поэта Пушкина Наталья Гончарова? Героиня русских сказок Аленушка – золотоволосая кукла с румяными щеками и длинной, до пояса, косой? Крепкогрудая Аксинья, донская казачка из «Тихого Дона» Шолохова? Или, как сказано у другого русского поэта, женщина, которая «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет»? Можно ли вообще создать собирательный тип «настоящей русской женщины», как собирают сейчас криминалисты словесный портрет-фоторобот?
И если создать такой портрет – историко-социально-сексуальный, – можно ли вычислить, вообразить, как эта «настоящая русская женщина», квинтэссенция русской красоты, будет вести себя в постели? Ведь это загадка и белое пятно всей русской литературы – как ведут себя в постели русские женщины? Почти двести страниц Толстой готовит нас к моменту, когда Каренина наконец-то отдастся Вронскому, но как Толстой описал этот знаменательный момент? Вся постельная сцена опущена, то, ради чего был предан муж, сын, семья, положение в обществе, то, о чем мечтала Анна всю первую часть романа – трахнуться с Вронским, или, как пишет сам Толстой, «то, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно желанье его жизни, заменившее ему все прежние желания; то, что для Анны было невозможною, ужасною и тем более обворожительною мечтою счастия, – это желание было удовлетворено». Вот и все! «Было удовлетворено». А как удовлетворено? Каким способом? Что чувствовал Вронский, когда раздевал Анну? Когда взял рукой ее грудь? Что ощущала Анна, лежа под ним? Опытный, знавший толк в сексе граф Толстой, сам перетрахавший сотню, если не больше, своих крепостных девок, скрыл от нас все, кроме одной малозначительной подробности, – это произошло на диване, «…она вся сгибалась и падала с дивана, на котором сидела, на пол, к его ногам; она упала бы на ковер, если б он не держал ее. „Боже мой! Прости меня!“ – всхлипывая, говорила она, прижимая к своей груди его руки… Было что-то ужасное и отвратительное в воспоминаниях о том, за что было заплачено этою страшною ценой стыда». И непонятно читателю – был Вронский хорошим или плохим мужчиной, и что в конце концов такого сладостного между ними произошло, что Анна, несмотря на эти «ужасные и отвратительные воспоминания», все же волочится за Вронским еще три тома…
Ни у Толстого, ни у Достоевского, ни у других известных миру крупных русских писателей нет эротических сцен и нет даже намека на то, что смыслит в сексе русская женщина. Мы знаем, что Мопассан внедрил в мировое общественное мнение сознание многократного превосходства французской женщины-любовницы над всеми другими, и практически вся мировая литература ничем не ответила на этот вызов. Немцы признали расчетливость своих фрау, англичане – холодность англичанок, и только «Кармен» Мериме удержала на пьедестале эротические достоинства испанок, а Бодлер вступился за евреек: «…с еврейкой бешеной, простертой на постели!..»
А искать эротические или сексуальные сцены в произведениях современных русских писателей – напрасный труд. Впрочем, как написал бы какой-нибудь ученый буквоед, «в мою задачу не входит защищать эротическую честь русской женщины». Но когда я задумал эту книгу и стал оглядываться по сторонам в поисках, на что бы опереться в русской литературе, живописи и науке для подтверждения и опровержения каких-то идей, я вдруг обнаружил, что вокруг – сплошная пустота. Эротические стихи русских классиков – под запретом. А неклассики, представители так называемой желтой бульварной дореволюционной русской литературы, давно уничтожены советской властью вместе с их книгами. Может быть, где-то в подвалах Ленинской библиотеки и хранятся дореволюционные эротические книги, но доступа туда нет даже сотрудникам научно-исследовательских институтов.
Психологические и социально-медицинские исследования в области эротики современной русской женщины тоже, насколько я знаю, не проводятся, во всяком случае в печати об этом нет ни слова. И только изредка какой-нибудь очень уж бойкий врач-психиатр пытается открыть консультационный пункт по лечению расстройств женской психики или половых расстройств.
Короче говоря, никакой социально-бытовой статистики, никаких научных или медицинских данных об эротике в советской печати нет.
Поэтому я отправляюсь в это исследование, в эту книгу, как рыбак-одиночка в открытый океан. Только мой личный опыт служит мне компасом, моя постель служит мне лодкой, а простыни этой постели – сменные паруса в этом путешествии. Оглядываясь назад, на свою сознательную половую жизнь, я вижу, что эту лодку часто бросало в жестокие штормы, что паруса нередко были порваны в клочья или залиты кровью во время сексуальных баталий и вся моя холостяцкая жизнь висела на волоске, и больше того, я хорошо, отчетливо помню, как десятки, если не сотни раз я кричал, стонал и шептал в минуты наслаждения: «О Господи, я умираю!» – и это лучшее подтверждение высокого эротического престижа русской женщины. Никакие еврейки, казашки, бурятки, осетинки, украинки или заезжие француженки и американки не доставляли мне такого наслаждения, как наши местные провинциальные, даже не московские, а именно провинциальные русские женщины.
Но не будем забегать вперед. Читатель ждет конкретных доказательств. Сейчас, товарищи, сейчас. Вернемся в город Горький, в гостиницу «Москва».
…Я тоже разделся. Догола. Вообще-то сразу после акта хочется обычно натянуть трусы, поскольку вид безвольно опавшего Младшего Брата как-то не поддерживает ваше мужское достоинство. Поэтому я предпочитаю после акта надеть трусы. А кроме того, срабатывает еще один инстинкт – защиты. Усталый, перетрудившийся член сам стремится спрятаться в какую-нибудь скорлупу, как улитка, спрятаться так, чтобы никто и ничто не касались его. Я помню, такое же чувство было у меня после операции аппендицита, когда хотелось постоянно прикрывать ладонью еще незаживший шов – чтобы никто не дотронулся, не дай Бог! Так при ранах и ушибах вы бережете пораненное место. Мой Младший Брат имеет ту же потребность – сразу после акта минут на десять-пятнадцать он хочет спрятаться, укрыться, избежать чьих-либо прикосновений. Помнится, в Ленинграде у меня была потрясающая любовница – полноватая, зажигательная и удивительно заботливая тридцатилетняя брюнетка, которая ублажала меня в постели так замечательно и отдавалась так темпераментно, что у меня и сейчас, при одном воспоминании, кровь бросается в голову. Боже, что она делала! Что она вытворяла своей роскошной, мягко-упругой задницей! Эта задница была изумительным инструментом возбуждения! Стоило ей повернуться ко мне спиной и чуть вильнуть, как мой Младший Брат вскакивал, будто у пятнадцатилетнего мальчишки. А принимая его в себя, ее Младшая Сестренка умела какими-то специально тренированными мускулами обжимать моего Братишку, словно трепещущим пульсирующим колечком, и втягивать, всасывать в себя! Да, мускулатурой ее Сестренка действовала, будто ртом, – такое удовольствие я нашел во всей России раз пять, не больше, и тем не менее мне пришлось расстаться с этой женщиной. Потому что при всех ее восхитительных качествах у нее была одна нелепая привычка: она любила держаться за член. Сразу после акта она забирала моего Младшего Брата в руку и держала его в ладони, как заложника. Не ласкала, не возбуждала, просто держала. И только так она могла заснуть. Что я ни делал, чтобы освободить его из этого плена! Отворачивался, поджимал под себя колени, прятал своего Братишку, заслонял его своими ладонями, просто скандалил – все было бесполезно, стоило мне уснуть, как через несколько минут я просыпался от того, что она держится за Брата. Я терпел. Думаю: ладно, такая замечательная баба, так прекрасно отдается, делает все, что только я прикажу, и после этого еще и сама же купает меня в ванной, отмывает моего Братишку, – уж ради такого обслуживания потерплю пару минут, пусть уснет с моим членом в руке, а я его потом как-нибудь высвобожу из плена. Но дудки! Не тут-то было! Даже во сне она не отдавала мне моего Младшего Брата.
Случайно выпустив его, она тут же сонными руками шарила по моей спине, животу, коленям, и, как я ни уворачивался, как ни отодвигался, она находила его, забирала к себе в ладони и только тогда засыпала снова, счастливо чмокая во сне пухлыми губами. Что мне было делать? Я не могу спать, когда кто-то держит меня за член! А вы можете?
Короче говоря, я привык после акта надевать трусы, такая уж у меня слабость, извините. Но тут, в городе Горьком, в ту благословенную ночь я просто позабыл о всех своих привычках. Сразу после «увертюры» я разделся догола, и мы с ней были как Адам и Ева среди купеческо-мягкой мебели провинциальной русской гостиницы, в номере, украшенном огромной пальмой в деревянной кадке. И что же, вы думаете, мы делали? Вообразите себе – она мне играла на рояле! Она играла мне на рояле и пела свои баллады, но, конечно, это продолжалось недолго. Потому что, пока я стоял у нее за спиной, мой опавший Младший Брат касался ее лопаток, гладил ее по позвоночнику и зарывался в ее мягкие, пушистые, льняные волосы. Нужно ли говорить, что уже через несколько минут мы снова были в постели?
И вот здесь я должен сказать, что эта 17-летняя Любаша Платочкина оказалась и Анной Карениной, и Наташей Ростовой, и Сонечкой Мармеладовой, и Настасьей Филипповной, и царевной из старых русских сказок. Она была по-царски щедра на ласки, она была застенчива, как Сонечка Мармеладова, трепетна, как Наташа Ростова, отчаянно-доверчива, как Анна Каренина, и неистова, как Настасья Филипповна. Но все это вам ничего не скажет, если вы не поймете, что во всякой позе нашего соития, при любом, самом несусветном положении, когда в неистовом приступе желания мы уподоблялись всем земным тварям Господним – от четвероногих до земноводных, когда я тискал ее, раздвигал, вертел ее волчком на моем Брате, а потом погружал его для отдыха ей за щеку – во всех этих замечательных безумствах я испытывал еще одно, уже не сексуальное, а духовное чувство – у меня было ощущение, что она меня нянчит, что она позволяет мне баловаться, безумствовать, терзать и мять ее тело, как позволяет добрая нянька грудному ребенку щипать себя, кусать молочными зубами и даже бить младенческим кулачком. Порой ей было больно уже взаправду, но она терпит, и даже смеется, и даже гладит своего маленького тирана…
Вот что такое русская женщина в своем идеале. Мне сорок лет, за последние двадцать из них перетрахал я сотни баб, попадались мне и залетные туристки из Парижа и Нью-Йорка, и я могу сказать, что русская женщина в постели – это не только женщина, но и еще что-то. И очень часто – во всей остальной жизни тоже. Не только любовница, но и нянька. Может быть, именно поэтому холостые иностранцы почти никогда не уезжают домой без русских жен.
Глава 2