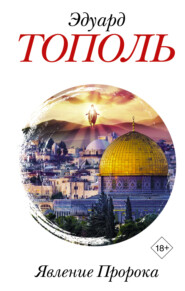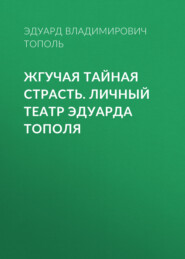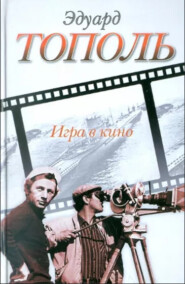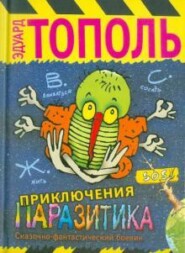По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Любожид
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Собрав с пола свои нестираные рубашки, трусы и две пары джинсов, Раппопорт положил пару джинсов и две сорочки в авоську, а все остальное свернул в узел, бросил этот узел в мусорную урну, обмахиваясь от жары австрийской визой, пошел на второй этаж аэровокзала, на паспортный контроль.
Здесь, уже перед выходом на посадку, его остановил майор Швырев:
– Одну минутку, Раппопорт!
– Простите?
– Где валюта?
– Вот… Вы же видели… – Раппопорт вытащил из кармана жалкую пачку – 90 долларов.
– Не морочьте голову! Вы знаете, о какой валюте я говорю! Смотрите! – И Швырев протянул Раппопорту несколько больших черно-белых фотографий, на которых Максим был снят в моменты приобретения валюты у фарцы в Москве, Ленинграде, Риге и Одессе. – Итак! Или вы скажете, где эта валюта, или я сниму вас с рейса!
– Ах, эта валюта! Вот вы что искали! – воскликнул Раппопорт. – Ну, дорогой мой, вы бы так и сказали с самого начала! А то изрезали такие дорогие чемоданы! И с чем я еду? Стыдно в Вене выйти из самолета!
– Не валяйте дурака! Ну!
Глубокая печаль легла на носатое лицо Максима Раппопорта.
– Разве вы не знаете, что случилось, товарищ майор? – сказал он. – Эти жулики меня надули. Ужасно, страшно надули! Они же подсунули мне фальшивые стодолларовые купюры! Я собирал их по всей стране! Я так старался – вы же видите! – Он кивнул на уличающие его фотографии. – И что? Боже мой, вчера ночью я чуть не получил инфаркт! Я показал эти сраные деньги американским и австралийским дипломатам, и они тут же сказали, что все мои деньги – туфта. Подделка! Даже нигериец и тот понял это с первого взгляда! И я их сжег. А что мне оставалось делать? Я сжег их в своем камине! Позвоните вашим людям, которые наверняка уже сидят в моей квартире, и попросите их пошуровать в камине как следует. Эти фальшивые деньги плохо горят, и, я думаю, там еще можно найти клочки…
Но майору Швыреву не нужно было звонить в бывшую квартиру Раппопорта, он уже разговаривал со своими сотрудниками, которые помчались в квартиру Раппопорта, как только оказалось, что и третий чемодан Раппопорта пуст. И эти сотрудники уже сказали майору Швыреву о том, что в камине среди груды пепла они нашли 649 несгоревших клочков американских стодолларовых банкнот. «Он сжег миллион долларов!» – кричали они в телефон.
– Что ж делать, дорогой? – грустно сказал Максим Раппопорт майору Швыреву и по-товарищески потрепал его по плечу, уже ожидавшему такие, казалось бы, близкие подполковничьи погоны. – Что делать? Как говорил мой папа Раппопорт, с деньгами нужно расставаться легко. Даже с миллионом. Даже миллион, говорил мой папа, не стоит буквы «п» в нашей фамилии. Я могу идти?
Швырев не шевельнулся и не сказал ничего.
– Честно говоря, майор, я думал, что это ваша работа. Что это вы подставили мне липовые купюры. Разве нет?
Швырев молчал.
Раппопорт пожал плечами, повернулся и пошел на посадку в самолет, все так же обмахиваясь австрийской визой и покачивая авоськой с джинсами.
Майор Швырев смотрел ему вслед до самого конца и даже проводил взглядом его самолет.
А назавтра, 18 июля, эксперты КГБ доложили майору, что спектральный и химический анализы клочков стодолларовых купюр, найденных в камине Максима Раппорта, показали совершенно определенно: это были настоящие, подлинные американские деньги! Но даже и в этот день Швырев еще не понял, что случилось. Неужели Раппопорт сам, своими руками сжег миллион долларов?!
Только через неделю, ночью, Швырев проснулся в холодном поту от того, что во сне, в ужасном, кошмарном сне он вдруг воочию увидел, как обвел его Раппопорт.
Он действительно сжег миллион долларов – десять тысяч стодолларовых купюр! Он сжег их на глазах трех американских и двух австралийских дипломатов. Но до этого каждый из этих дипломатов получил от Раппопорта микропленки с фотографиями всех этих купюр, а также перечень их номерных знаков. И они сами, собственноручно и своими глазами сверили эти номерные знаки с оригиналами. А потом составили акт об уничтожении этих денег путем сожжения.
Там, в США, на основании этих документов, заверенных представителями двух посольств, американский федеральный банк выдаст Раппопорту ровно миллион долларов взамен уничтоженных.
Первый отдел Второго главного управления КГБ, контролирующий деятельность западных дипломатов в Москве, бросился искать тех дипломатов, которые были на «отвальной» Раппопорта. Но, как еще той же ночью предположил Швырев, они – все пятеро – улетели из Москвы одновременное Раппопортом – 17 июля 1975 года.
Впрочем, эти детали молва могла и переврать для пущей красоты легенды. Однако все рассказчики этой нашумевшей в Москве истории неизменно заключали ее одной фразой: КГБ, говорили они, играло против Раппопорта уверенно, как Карпов. А он переиграл их, этот Раппопорт с тремя «п».
Единственное, чего не понимала Анна даже три года спустя, сидя на скамейке на площади Пушкина, – это почему с тех пор Максим ни разу не дал о себе знать. Она-то знала, что он в Бостоне и, как донесли ей доброжелатели, «в полном порядке». Но он, который готов был отдать всю свою фамилию с тремя «п» за то, чтобы вывезти ее с собой, сам не передал ей ни привета, не позвонил, не прислал письма.
– К черту! – горько сказала себе Анна, выкуривая третью, наверно, сигарету. К чертовой матери! Она должна думать о себе, а не о Максиме. Гольский поставил перед ней проблему, которую все равно нужно было решать рано или поздно. Конечно, она не еврейка, но при ее еврейском круге знакомств и пристрастий и при ее кличке «Анна Евреевна» нельзя прятать голову под крыло своей русской пятой графы и подставлять все остальное этим гольским, кузяевым, швыревым и прочим хорькам великой Советской империи. «Поимеют! Они – тебя – поимеют!» – вдруг с твердым и холодным ожесточением сказала Анна сама себе, даже не подсчитывая все остальные pro и contra. Что ж тут подсчитывать, если они ведут ее уже несколько лет (как минимум – три!), если они знают про нее все или почти все и если они действительно могут в любой момент шантажировать ее Максимом, левым бизнесом отца-алкаша или своим влиянием на карьеру Аркаши и ее собственную.
– А вот уж фуюшки! – усмехнулась она и мысленно сказала этому Гольскому: «Выкуси, дорогой! Ты думаешь, что знаешь обо мне все, но ты не знаешь одного – я свободна! Я свободна от Аркаши, понятно?»
Тогда, в 1975-м, в день ее прилета из Крыма, мужа не было дома – он, как обычно, торчал в Черноголовке, в своем закрытом институте, и ночевал там же, в общежитии ученых – у него была там комната. Анна дозвонилась до него, вызвала в Москву, рассказала о Максиме и сказала, что хочет развестись. Но Аркадий сказал:
– Зачем тебе развод, если он уезжает? Если ты не хочешь больше спать со мной – я проживу без этого. И вообще – можешь в этом отношении считать себя совершенно свободной…
И так это осталось – они жили в одной квартире, но независимой жизнью друзей, а не супругов. Аркадий, она знала, любил ее, надеялся на что-то, но если она уедет, она освободит его, развяжет и этот узел. А в Америке у нее сын. Сын и Максим Раппопорт. Так пошли вы все на хер! К сыну они обязаны ее выпустить – по статье про объединение семей, «И если я действительно уеду, – настропаляла себя Анна, – то Аркаше от этого только польза будет, он освободится от компромата…»
Она вытащила последнюю сигарету из пачки. Закурила. Прищурилась в задумчивости. Разве уважающий себя человек может работать с этими плебеями?
– Вы много курите… – сказал длинноволосый хиппарь с гитарой.
– Это последняя. Я бросаю, – сказала Анна.
Она встала со скамейки, сделала последнюю затяжку и решительно затоптала сигарету носком своей левой туфли. Потом вскинула голову и каким-то новым, перископическим зрением увидела всю улицу Горького, Тверской бульвар и Пушкинскую площадь. В сиреневых светлых летних сумерках по краям площади зажигались старинные чугунные фонари, а за ними, через улицу, желтыми квадратами высветились окна «Известий», неоном вспыхнули вывески «Moscow news» и «Арагви», и скрытые в кустах прожекторы осветили фонтан перед кинотеатром «Россия». И на гранитном постаменте, окруженном цепями, – статую Пушкина с наклоненной к прохожим задумчивой курчавой головой. Анна знала, что до ее отъезда еще далеко, очень далеко – даже если она завтра же подаст заявление об увольнении с работы «по собственному желанию». Но она вдруг поняла, что внутренне она уже отстранилась. И поэтому ее глаза приобрели способность увидеть все прощальным зрением, запоминающим каждую деталь. Этого московского хиппаря с гитарой… Этого грустного арапа Пушкина, даже через сто лет после смерти окруженного цепями в центре оплота мира и всего свободолюбивого человечества… Эту молодую толпу – шаркающую по пыльному асфальту, смеющуюся, задевающую ее за плечо, облизывающую эскимо, пахнущую свежими мимозами и не уступающую дорогу машинам на Тверском бульваре…
Анна шагнула вниз, в подземный переход через улицу Горького, но вдруг резкая трель милицейских свистков, топот ног, крики, хлесткие удары мордобоя и глухой звук падающих тел заставили ее оглянуться. И так, уже наполовину скрытая в переходе, Анна замерла, как в трансе. Возле памятника Пушкину творилось что-то ужасное. Группа мужчин и женщин стояла за цепью, у постамента, тесным кольцом, высоко подняв над головой плакаты с шестиконечными звездами и от руки написанными словами: «ОТПУСТИ НАРОД МОЙ!» Тот самый лохматый парень-хиппарь, который две минуты назад мирно бренчал на гитаре песни Окуджавы, теперь тоже стоял под Пушкиным, высоко держал гитару над головой, и на тыльной стороне этой гитары была синяя шестиконечная звезда.
– Отказники… – сказал кто-то рядом с Анной.
Анна, замерев, видела, как со всех сторон – с Тверского бульвара, с Горького, от метро «Пушкинская», из подъезда «Известий» и, грубо толкнув ее, из подземного перехода – к этой группе демонстрантов, освещенных пушкинскими прожекторами, стремительно бежали милиционеры, дружинники с красными повязками на рукавах и какие-то крепкие, спортивного кроя молодые мужчины в серых костюмах. Первые из них, авангард, уже врезались в группу отказников и без слов с ходу, наотмашь, кулаками в челюсти и ногами в живот били этих несопротивляющихся людей, рвали у них из рук плакаты и топтали их ногами, а вторая волна атакующих уже крутила руки хиппарю с гитарой.
Какая-то девушка упала, крича: «Звери! Да здравствует свобода!»
Боковым зрением Анна увидела высокого иностранца, который на той стороне улицы Горького поднял над своей головой фотоаппарат. Но его тут же сбили с ног, вырвали камеру, и объектив этой камеры тут же хрустнул под чьим-то каблуком.
А дальше, из-за кафе «Лира», уже выскочил «черный ворон», словно по волшебству оказавшийся наготове. Наперерез движению по Горького этот «ворон» рванул прямо к Пушкину, подпрыгнул при ударе передних колес о тротуар и лихо тормознул на чугунных пушкинских цепях в полуметре от свалки и мордобоя. Мигом – изнутри – распахнулись железные задние дверцы «воронка», и вот уже избитых, окровавленных, в порванной одежде демонстрантов с их изорванными плакатами и разбитой гитарой впихивают, заталкивают и кулями швыряют в темную глубину машины. А они еще рвутся, сопротивляются и кричат: «Мы мирная демонстрация! Вы подписали Хельсинкское соглашение!..»
Анна, онемев, продолжала стоять на второй ступеньке подземного перехода. Все, что она видела, было как в кино, как во сне, как в кошмаре, который невозможно остановить, – мигом опустевшая Пушкинская площадь, словно сдуло гуляющую толпу, минутный мордобой, хруст плакатов под ботинками дружинников, крики женщин, разорванная одежда, выбитые с кровью зубы и этот «воронок», поглотивший всю группу демонстрантов, хлопнувший задними дверцами, лязгнувший наружным замком-засовом и тут же отчаливший по Тверскому бульвару в сторону близкой Петровки.
И – все. Спортивного кроя молодые люди быстро подобрали клочки плакатов и чью-то туфлю; дружинники подошвами ботинок затерли пятна крови на асфальте и тут же разошлись, мирно закуривая; и уже новые волны гуляющей публики накатили на площадь снизу от Главтелеграфа и сверху, от площади еще одного поэта – Маяковского. Люди, не видевшие этого блиц-погрома, громко, как и прежде, флиртовали на ходу, ели эскимо, раскупали у торговок желтую весеннюю мимозу, а в ларьках – сигареты. И замершее было движение машин по Горького возобновилось, «Жигули» и «Волги» зашуршали шинами и нетерпеливо загудели при повороте на Тверской бульвар. И все так же беззвучно струился фонтан перед «Россией», и все так же безмолвно и с задумчивой грустью смотрел на этот нелепый народ его самый великий поэт – Александр Пушкин. Сто пятьдесят лет назад он тоже просил царя разрешить ему поехать за границу, но царь отказал даже ему, Пушкину, и Пушкин – первый русский поэт-отказник – застрял в России навек. Огражденный цепями, он стоял сейчас на улице имени еще одного пленника – Максима Горького. Этот «великий пролетарский писатель» просил уже другого царя – Иосифа Сталина – тоже отпустить его за границу. Но с тем же результатом: теперь и он, отказник
Здесь, уже перед выходом на посадку, его остановил майор Швырев:
– Одну минутку, Раппопорт!
– Простите?
– Где валюта?
– Вот… Вы же видели… – Раппопорт вытащил из кармана жалкую пачку – 90 долларов.
– Не морочьте голову! Вы знаете, о какой валюте я говорю! Смотрите! – И Швырев протянул Раппопорту несколько больших черно-белых фотографий, на которых Максим был снят в моменты приобретения валюты у фарцы в Москве, Ленинграде, Риге и Одессе. – Итак! Или вы скажете, где эта валюта, или я сниму вас с рейса!
– Ах, эта валюта! Вот вы что искали! – воскликнул Раппопорт. – Ну, дорогой мой, вы бы так и сказали с самого начала! А то изрезали такие дорогие чемоданы! И с чем я еду? Стыдно в Вене выйти из самолета!
– Не валяйте дурака! Ну!
Глубокая печаль легла на носатое лицо Максима Раппопорта.
– Разве вы не знаете, что случилось, товарищ майор? – сказал он. – Эти жулики меня надули. Ужасно, страшно надули! Они же подсунули мне фальшивые стодолларовые купюры! Я собирал их по всей стране! Я так старался – вы же видите! – Он кивнул на уличающие его фотографии. – И что? Боже мой, вчера ночью я чуть не получил инфаркт! Я показал эти сраные деньги американским и австралийским дипломатам, и они тут же сказали, что все мои деньги – туфта. Подделка! Даже нигериец и тот понял это с первого взгляда! И я их сжег. А что мне оставалось делать? Я сжег их в своем камине! Позвоните вашим людям, которые наверняка уже сидят в моей квартире, и попросите их пошуровать в камине как следует. Эти фальшивые деньги плохо горят, и, я думаю, там еще можно найти клочки…
Но майору Швыреву не нужно было звонить в бывшую квартиру Раппопорта, он уже разговаривал со своими сотрудниками, которые помчались в квартиру Раппопорта, как только оказалось, что и третий чемодан Раппопорта пуст. И эти сотрудники уже сказали майору Швыреву о том, что в камине среди груды пепла они нашли 649 несгоревших клочков американских стодолларовых банкнот. «Он сжег миллион долларов!» – кричали они в телефон.
– Что ж делать, дорогой? – грустно сказал Максим Раппопорт майору Швыреву и по-товарищески потрепал его по плечу, уже ожидавшему такие, казалось бы, близкие подполковничьи погоны. – Что делать? Как говорил мой папа Раппопорт, с деньгами нужно расставаться легко. Даже с миллионом. Даже миллион, говорил мой папа, не стоит буквы «п» в нашей фамилии. Я могу идти?
Швырев не шевельнулся и не сказал ничего.
– Честно говоря, майор, я думал, что это ваша работа. Что это вы подставили мне липовые купюры. Разве нет?
Швырев молчал.
Раппопорт пожал плечами, повернулся и пошел на посадку в самолет, все так же обмахиваясь австрийской визой и покачивая авоськой с джинсами.
Майор Швырев смотрел ему вслед до самого конца и даже проводил взглядом его самолет.
А назавтра, 18 июля, эксперты КГБ доложили майору, что спектральный и химический анализы клочков стодолларовых купюр, найденных в камине Максима Раппорта, показали совершенно определенно: это были настоящие, подлинные американские деньги! Но даже и в этот день Швырев еще не понял, что случилось. Неужели Раппопорт сам, своими руками сжег миллион долларов?!
Только через неделю, ночью, Швырев проснулся в холодном поту от того, что во сне, в ужасном, кошмарном сне он вдруг воочию увидел, как обвел его Раппопорт.
Он действительно сжег миллион долларов – десять тысяч стодолларовых купюр! Он сжег их на глазах трех американских и двух австралийских дипломатов. Но до этого каждый из этих дипломатов получил от Раппопорта микропленки с фотографиями всех этих купюр, а также перечень их номерных знаков. И они сами, собственноручно и своими глазами сверили эти номерные знаки с оригиналами. А потом составили акт об уничтожении этих денег путем сожжения.
Там, в США, на основании этих документов, заверенных представителями двух посольств, американский федеральный банк выдаст Раппопорту ровно миллион долларов взамен уничтоженных.
Первый отдел Второго главного управления КГБ, контролирующий деятельность западных дипломатов в Москве, бросился искать тех дипломатов, которые были на «отвальной» Раппопорта. Но, как еще той же ночью предположил Швырев, они – все пятеро – улетели из Москвы одновременное Раппопортом – 17 июля 1975 года.
Впрочем, эти детали молва могла и переврать для пущей красоты легенды. Однако все рассказчики этой нашумевшей в Москве истории неизменно заключали ее одной фразой: КГБ, говорили они, играло против Раппопорта уверенно, как Карпов. А он переиграл их, этот Раппопорт с тремя «п».
Единственное, чего не понимала Анна даже три года спустя, сидя на скамейке на площади Пушкина, – это почему с тех пор Максим ни разу не дал о себе знать. Она-то знала, что он в Бостоне и, как донесли ей доброжелатели, «в полном порядке». Но он, который готов был отдать всю свою фамилию с тремя «п» за то, чтобы вывезти ее с собой, сам не передал ей ни привета, не позвонил, не прислал письма.
– К черту! – горько сказала себе Анна, выкуривая третью, наверно, сигарету. К чертовой матери! Она должна думать о себе, а не о Максиме. Гольский поставил перед ней проблему, которую все равно нужно было решать рано или поздно. Конечно, она не еврейка, но при ее еврейском круге знакомств и пристрастий и при ее кличке «Анна Евреевна» нельзя прятать голову под крыло своей русской пятой графы и подставлять все остальное этим гольским, кузяевым, швыревым и прочим хорькам великой Советской империи. «Поимеют! Они – тебя – поимеют!» – вдруг с твердым и холодным ожесточением сказала Анна сама себе, даже не подсчитывая все остальные pro и contra. Что ж тут подсчитывать, если они ведут ее уже несколько лет (как минимум – три!), если они знают про нее все или почти все и если они действительно могут в любой момент шантажировать ее Максимом, левым бизнесом отца-алкаша или своим влиянием на карьеру Аркаши и ее собственную.
– А вот уж фуюшки! – усмехнулась она и мысленно сказала этому Гольскому: «Выкуси, дорогой! Ты думаешь, что знаешь обо мне все, но ты не знаешь одного – я свободна! Я свободна от Аркаши, понятно?»
Тогда, в 1975-м, в день ее прилета из Крыма, мужа не было дома – он, как обычно, торчал в Черноголовке, в своем закрытом институте, и ночевал там же, в общежитии ученых – у него была там комната. Анна дозвонилась до него, вызвала в Москву, рассказала о Максиме и сказала, что хочет развестись. Но Аркадий сказал:
– Зачем тебе развод, если он уезжает? Если ты не хочешь больше спать со мной – я проживу без этого. И вообще – можешь в этом отношении считать себя совершенно свободной…
И так это осталось – они жили в одной квартире, но независимой жизнью друзей, а не супругов. Аркадий, она знала, любил ее, надеялся на что-то, но если она уедет, она освободит его, развяжет и этот узел. А в Америке у нее сын. Сын и Максим Раппопорт. Так пошли вы все на хер! К сыну они обязаны ее выпустить – по статье про объединение семей, «И если я действительно уеду, – настропаляла себя Анна, – то Аркаше от этого только польза будет, он освободится от компромата…»
Она вытащила последнюю сигарету из пачки. Закурила. Прищурилась в задумчивости. Разве уважающий себя человек может работать с этими плебеями?
– Вы много курите… – сказал длинноволосый хиппарь с гитарой.
– Это последняя. Я бросаю, – сказала Анна.
Она встала со скамейки, сделала последнюю затяжку и решительно затоптала сигарету носком своей левой туфли. Потом вскинула голову и каким-то новым, перископическим зрением увидела всю улицу Горького, Тверской бульвар и Пушкинскую площадь. В сиреневых светлых летних сумерках по краям площади зажигались старинные чугунные фонари, а за ними, через улицу, желтыми квадратами высветились окна «Известий», неоном вспыхнули вывески «Moscow news» и «Арагви», и скрытые в кустах прожекторы осветили фонтан перед кинотеатром «Россия». И на гранитном постаменте, окруженном цепями, – статую Пушкина с наклоненной к прохожим задумчивой курчавой головой. Анна знала, что до ее отъезда еще далеко, очень далеко – даже если она завтра же подаст заявление об увольнении с работы «по собственному желанию». Но она вдруг поняла, что внутренне она уже отстранилась. И поэтому ее глаза приобрели способность увидеть все прощальным зрением, запоминающим каждую деталь. Этого московского хиппаря с гитарой… Этого грустного арапа Пушкина, даже через сто лет после смерти окруженного цепями в центре оплота мира и всего свободолюбивого человечества… Эту молодую толпу – шаркающую по пыльному асфальту, смеющуюся, задевающую ее за плечо, облизывающую эскимо, пахнущую свежими мимозами и не уступающую дорогу машинам на Тверском бульваре…
Анна шагнула вниз, в подземный переход через улицу Горького, но вдруг резкая трель милицейских свистков, топот ног, крики, хлесткие удары мордобоя и глухой звук падающих тел заставили ее оглянуться. И так, уже наполовину скрытая в переходе, Анна замерла, как в трансе. Возле памятника Пушкину творилось что-то ужасное. Группа мужчин и женщин стояла за цепью, у постамента, тесным кольцом, высоко подняв над головой плакаты с шестиконечными звездами и от руки написанными словами: «ОТПУСТИ НАРОД МОЙ!» Тот самый лохматый парень-хиппарь, который две минуты назад мирно бренчал на гитаре песни Окуджавы, теперь тоже стоял под Пушкиным, высоко держал гитару над головой, и на тыльной стороне этой гитары была синяя шестиконечная звезда.
– Отказники… – сказал кто-то рядом с Анной.
Анна, замерев, видела, как со всех сторон – с Тверского бульвара, с Горького, от метро «Пушкинская», из подъезда «Известий» и, грубо толкнув ее, из подземного перехода – к этой группе демонстрантов, освещенных пушкинскими прожекторами, стремительно бежали милиционеры, дружинники с красными повязками на рукавах и какие-то крепкие, спортивного кроя молодые мужчины в серых костюмах. Первые из них, авангард, уже врезались в группу отказников и без слов с ходу, наотмашь, кулаками в челюсти и ногами в живот били этих несопротивляющихся людей, рвали у них из рук плакаты и топтали их ногами, а вторая волна атакующих уже крутила руки хиппарю с гитарой.
Какая-то девушка упала, крича: «Звери! Да здравствует свобода!»
Боковым зрением Анна увидела высокого иностранца, который на той стороне улицы Горького поднял над своей головой фотоаппарат. Но его тут же сбили с ног, вырвали камеру, и объектив этой камеры тут же хрустнул под чьим-то каблуком.
А дальше, из-за кафе «Лира», уже выскочил «черный ворон», словно по волшебству оказавшийся наготове. Наперерез движению по Горького этот «ворон» рванул прямо к Пушкину, подпрыгнул при ударе передних колес о тротуар и лихо тормознул на чугунных пушкинских цепях в полуметре от свалки и мордобоя. Мигом – изнутри – распахнулись железные задние дверцы «воронка», и вот уже избитых, окровавленных, в порванной одежде демонстрантов с их изорванными плакатами и разбитой гитарой впихивают, заталкивают и кулями швыряют в темную глубину машины. А они еще рвутся, сопротивляются и кричат: «Мы мирная демонстрация! Вы подписали Хельсинкское соглашение!..»
Анна, онемев, продолжала стоять на второй ступеньке подземного перехода. Все, что она видела, было как в кино, как во сне, как в кошмаре, который невозможно остановить, – мигом опустевшая Пушкинская площадь, словно сдуло гуляющую толпу, минутный мордобой, хруст плакатов под ботинками дружинников, крики женщин, разорванная одежда, выбитые с кровью зубы и этот «воронок», поглотивший всю группу демонстрантов, хлопнувший задними дверцами, лязгнувший наружным замком-засовом и тут же отчаливший по Тверскому бульвару в сторону близкой Петровки.
И – все. Спортивного кроя молодые люди быстро подобрали клочки плакатов и чью-то туфлю; дружинники подошвами ботинок затерли пятна крови на асфальте и тут же разошлись, мирно закуривая; и уже новые волны гуляющей публики накатили на площадь снизу от Главтелеграфа и сверху, от площади еще одного поэта – Маяковского. Люди, не видевшие этого блиц-погрома, громко, как и прежде, флиртовали на ходу, ели эскимо, раскупали у торговок желтую весеннюю мимозу, а в ларьках – сигареты. И замершее было движение машин по Горького возобновилось, «Жигули» и «Волги» зашуршали шинами и нетерпеливо загудели при повороте на Тверской бульвар. И все так же беззвучно струился фонтан перед «Россией», и все так же безмолвно и с задумчивой грустью смотрел на этот нелепый народ его самый великий поэт – Александр Пушкин. Сто пятьдесят лет назад он тоже просил царя разрешить ему поехать за границу, но царь отказал даже ему, Пушкину, и Пушкин – первый русский поэт-отказник – застрял в России навек. Огражденный цепями, он стоял сейчас на улице имени еще одного пленника – Максима Горького. Этот «великий пролетарский писатель» просил уже другого царя – Иосифа Сталина – тоже отпустить его за границу. Но с тем же результатом: теперь и он, отказник