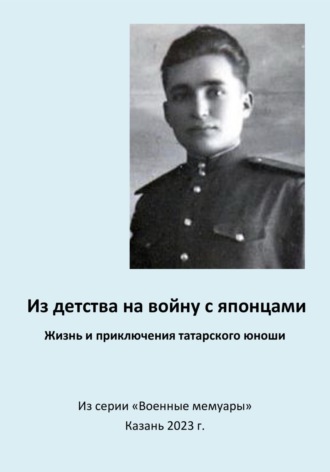
Из детства на войну с японцами. Жизнь и приключения татарского юноши
– Мальчик, не мешайся!
– Я не мешаюсь, я иду в цирк.
– Нужно было приходить днем.
– А я хочу вечером!
– Вечером придешь, когда получишь паспорт.
И я гордо достаю из кармана «дубликатом бесценного груза» свою краснокожую книжицу. Суровое выражение на лице контролера меняется на шутливо серьезное, но, с каким-то непонятным оттенком во взгляде. Этот оттенок я долгие годы не мог забыть. Только много лет спустя понял, что это было сострадательное и жалеющее выражение пожилой женщины, возможно, уже познавшей за эти 4 месяца горькое горе войны. Действительно, вид маленького изможденного мальчика, радующегося возможности посетить вечернее представление и не подозревающего, что его ждет в ближайшее время, не мог не вызвать сострадание.
Теперь, имея паспорт, можно было смело поступать на работу. При этом на такую работу, где и зарплата побольше, и хлебная карточка на 800 грамм в день. Это уже кое-что! 600 грамм для дома, а 200 – на обед.
Поступил на эвакуированный из Ленинграда оборонный завод. Цех, где я работал, находился в старом здании завода искусственных кож, за ТЭЦ-1. Работали с 16-00 до 4-00 (или, наоборот) в две смены без перерыва на обед. Обедали после смены с 4-00 до 5-00 (или с 16-00 до 17-00). Обед почти всегда состоял из горохового супа и немного овсяной каши. В супе, кроме 1-2 ложек гущи и воды, было много гороховой шелухи. Она не давала ощущения сытости, но живот от нее болел. Один из друзей, побойчее меня, научил нас получать дополнительное питание. Поев свой суп, мы сливали из оставшихся на столе мисок воду с шелухой и шли показывать повару несостоятельность «своих порций». Чаще всего, он наливал еще.
Все было терпимо, но зимой перестали ходить трамваи. Некому стало чистить заносы, а может, и другие были причины. Теперь на работу ходил (жил около Кремля) 2,5 часа в один конец. Домашнего времени оставалось только 6 часов, которых не хватало и на сон. А спать очень хотелось после 12 часов работы на ногах у станка и 5 часов ходьбы. Выходных и праздников не было.
Моим мастером был седой старик, соратник Михаила Ивановича Калинина, с которым они в молодости работали на станках на этом же заводе. К сожалению, не помню его имени. Однажды он постоял около меня и сходил за ящиком. Опрокинул его около моего станка и ласково потрепал по плечу:
– Встань, сынок, на него. Так стружка будет лететь тебе на грудь.
Действительно, какое это облегчение, когда горячая латунная стружка и опилки бьют не в голую и потную шею, а на закрытую рубашкой грудь. Чтобы это понять, надо испытать! Смена-то без перерыва 12 часов.
Вот так было до декабря 1942 года, когда моих сверстников стали призывать в военкомат, а меня не вызывали. Тогда я сам пошел туда. Оказалось, что по какой-то ошибке, я не состоял у них на учете. Так была восстановлена справедливость и я 5 января 1943 г. был уже на сборном пункте с кружкой, ложкой и парой белья.
До предела видимости провожала мама. В рыдающей и кричащей толпе она выделялась гордым и молчаливым взглядом грустных, но без единой слезинки глаз.
Некоторые провожавшие женщины бросали на нее удивленные и несколько осуждающие взгляды. Но я – то знал, что будет дома. Она до меня уже провожала двоих сыновей и мужа. Ни разу при отъезжающих не проронила ни единой слезинки. Дома она ночами тряслась в рыданиях не одну неделю после каждых тяжелых проводов. К моему отъезду она уже знала, что муж и один сын никогда обратно не вернутся.
Так я ушел в неизвестность военной службы.
Глава 7 Эшелон 1943 года
5 января 1943 года. Мы на одной из железнодорожных станций Татарии. Здесь сборный пункт. Отсюда погрузимся и куда-то поедем. Куда поедем – это нам неведомо. Знаем только, что идет война.
Нас пятерых разместили в маленьком доме, где хозяйничала бабушка с тремя внучатами. Тесноту не замечали. Ни о тесноте, ни о фронте, смерти и других неприятностях мыслей не было. По каким-то неизвестным психологическим законам мы были бодры, веселы и несколько бесшабашны. Нам было по 17 лет.
Почти все имевшиеся у нас деньги, мы оставили в сельском магазинчике, куда с ближайшего спиртзавода в бочках из-под керосина, привозили водку. Видимо, другой тары не было. Пили смесь керосина с водкой. С чего больше дурели, не знали. Но никаких неприятностей не было, хотя народа было много и разного.
Опять работал тот неизвестный психологический закон. Все чувствовали сплоченность, дружелюбие, общность предстоящего. Если в обычной обстановке при массовом и обильном потреблении спиртного неизбежны скандалы, драки и т. д., то при ожидании общих для всех неизвестных, но неизбежно тяжелых, событий не было ни одного серьезного конфликта.
Так прошло 5 дней. Во второй половине дня подали эшелон. Нас распределили по вагонам. Я попал в числе 105 человек в четырехосный вагон. Этот вагон предназначен для перевозки 50 тонн груза, но для перевозки людей он мало подходит. Тем более, что в вагоне голые стены и полы, людей 105 человек, а мороз январский. Ну и что же? Война!
Пока грузились и отправлялись, стемнело. Предстояло ночевать в закрытом вагоне, в котором, кроме голых стен, ста пяти мальчишек и их тощих мешков, абсолютно ничего не было. В двух концах вагона, подальше от дверей и стен, образовались две кучи сидящих и лежащих людей. Постепенно кучи перемешивались и росли до 3-х слоев по высоте. Никому не хотелось быть близко к стене и полу. Никаких скандалов. Каждый молча перебирался к центру кучи и, если удавалось, засыпал. Происходило все в абсолютной темноте и жутком морозе. Проснувшись, в очередной раз, пытаюсь пролезть выше, так как чувствую жгучий холод от стены, но меня что-то держит. Пола́ пальто не выдергивается. Дергаю изо всех сил. Зажато намертво. Ощупью, перебирая пальто, выясняю причину. Пола́ капитально вмерзла в лед на стыке пола и стены. Достаю нож и пытаюсь сколоть лед. В кромешной темноте эта работа малорезультативна, да и опасна – можно задеть человека. Отрезаю вмерзший угол полы́, прячу нож и опять в кучу. С рассветом ожили, открыли два оконных люка. Немного стало холодней, но стали видеть обстановку. Все углы и стены во льду. Все же 105 человек надышали, даже если не считать других источников влаги.
Из-за загруженности дороги наш эшелон иногда останавливался. Выяснилось, что едем на восток. Реакция разная. Не сразу на фронт! – одна реакция. Долго так не попутешествуешь! – другая.
Первые сутки жили на остатках своих сил и харчей. На вторые сутки начали обживать вагон и получили по кусочку брынзы и кирпич хлеба на четверых. В вагоне появились доски, несколько ломов, «позаимствованных» у железнодорожников на остановках. Ломы годились для дележа хлеба. Хлеб клали на доску и слегка обстукивали ломом вдоль буханки. Затем резким ударом раскалывали пополам. Таким же способом раскалывали на четвертинки, которые полдня оттаивали за пазухой. На каждой остановке человек 70-80 только из нашего вагона разбегались в поисках всего, что нам годилось. Так, через неделю или чуть больше, у нас появились нары в 3 яруса, две буржуйки, ломы, 2 топора, доски на дрова, уголь, несколько разных кастрюль и другой посуды, в которых стали поочередно варить пойло из горохового концентрата. Через несколько дней мы уже спали без пальто, хлеб стали отогревать сутки, а ели вчерашний отогретый паек, который можно резать ножом. Жизнь наладилась. Все внешне успокоились. Сразу же кого-то потянуло на пакость: с верхних нар бросил махорку в бачок с концентратом. Виновник был избит. Больше ни у кого не возникало подобного желания.
Вопросы с теплом и питанием были решены, но с питанием было неважно. Сухари и силы кончились, перешли на паек. Этот паек, надо полагать, изрядно расхищался. Позже мы узнали, что такое армейский сухой паек, но тогда никто об этом не имел представления и думали, что так и положено.
На пристанционных базарах оставили последние рубли, если у кого еще оставались. Дальше стали «брать взаймы». Обычно эта операция начиналась с торговли и просьбы уступить в цене, а заканчивалась не очень удачной, но распространенной фразой, претендующей на юмор: «Ваш министр нашему министру должен». После этого «покупатель» уходил к себе в вагон, не обращая внимания на недовольство торгового партнера. Основным продуктом на базаре были пирожки с картошкой и замороженные плитки молока. Эти плитки, отлитые в мисках или тарелках, имели форму дисков. Бежит вдоль эшелона будущий солдат в гражданской одежде, весь в угольной пыли копоти, часто одежда в нескольких местах изодрана, а из охапки выпадают молочные диски, очень неудобные для такого способа транспортировки. Такие картинки были на каждой остановке Сибири, пока не начали предупреждать по телефону следующие станции о приближении эшелонов. Тогда нас уже ждали пустые базары.
Через 28 дней такого путешествия мы покинули свой обжитой, но очень суровый в первые дни «пульмановский» вагон. На небольшой дальневосточной железнодорожной станции, находящейся в 8,5 километрах от маньчжурской (ныне китайской) границы нас ждали представители воинской части.
Здесь нам предстояло обучаться воинскому ремеслу, обучать «новичков» 1926 года рождения. Между делом бегать по тревоге на границу и отбивать или уничтожать мелкие подразделения японской армии, систематически нарушавших нашу границу.
Оттуда мы уходили громить Квантунскую армию, туда же вернулись после капитуляции Японии. Только потом воинская судьба закинула меня в другие места.
Но, с момента выгрузки из эшелона, и до начала поездки в эти края, еще нужно было прожить, до жути тяжелых, по современным меркам, невыносимых 32 месяца.
Глава 8
Служба начинается
Служба на месте дислокации началась со столовой. Первый армейский обед нам показался намного лучше, чем мы наслушались об армейском питании в тыловых частях в 1943 году.
Но очень скоро мы поняли, что на первоначальную оценку обеда сильно влияли еще сохранившиеся сухари и почти месячная тряска в товарном вагоне без горячей пищи (если не считать болтушки из горохового концентрата и кипятка). Свою ошибку мы поняли сразу, как только переночевали одну ночь в помещении без колес (хотя и полуземлянка с тройными нарами), а наутро отобрали наши сухари. Завтрак уже не привел нас в столь благодушное состояние. С этого дня стало ясно, что нашему пищеварительному аппарату сильно утруждать себя работой едва ли придется.
С сухарями произошла вот какая история. После подъема было построение «с вещами». Возникли мысли, что нас куда-то поведут в другое место, но нас довели только до умывального сарая, где были расставлены пустые деревянные бочки. Выслушали короткую речь о том, что сухари могут привести к заболеванию желудков и плохому усвоению армейской пищи. Оказывается, мы будем еще сильней страдать, когда они у нас кончатся. Нам казалось, что желудок скорее заболит без сухарей, а страдать, как известно, предпочтительнее позже, чем немедленно. Но разговаривать в строю нельзя, а чтением наших мыслей старшина Мякинников не стал заниматься. Он просто подал команду: «Развязать мешки!» Что мы с сожалением сделали, предчувствуя, что нашим сухарям суждено оказаться в бочках. После следующей команды это мы и сделали собственными руками «справа по одному». Себе оставили только мешочки с махоркой. Их следовало сдать в каптерку старшины, а пустые мешки с заплечными веревками сложить около бочек.
Махорку сдали в каптерку и налегке пошли на завтрак, а из столовой в гарнизонную баню. Там работал конвейер. Длинный барак. Заходим с одного конца. Небольшая комната. Нас человек 30 (партиями входим). Потом оказалось, что это не партия, а взвод в 36 человек.
Против входа еще одна дверь, а справа открытое окно в другую комнату. Команда: «Раздеться! Одежду бросать в окно! С собой брать только документы, деньги и носовые платки». Денег не было ни у кого – это точно, документы остались у сопровождавшего нас в эшелоне человека, а платки, кое-кто из особо культурных еще сохранили. Один смельчак осмелился спросить:
– А что будет с нашими шмотками?
Ответ был краток – «в фонд обороны». Эта фраза тогда была популярна, ее часто слышали. Но когда я бросал свою одежду в окно, видел не совсем обычный способ доставки одежды в фонд обороны. Там, два-три старослужащих воровато оглядываясь через плечо, набивали армейские вещевые мешки одеждой поприличней, и исчезали за наружной дверью. Тотчас на смену им заходили такие же, с такими же мешками, но пустыми.
Моя гордость, мой пиджак, впервые в жизни сшитая «на заказ» одежда немедленно исчезла в очередном мешке. До этого пиджака все, что я надевал, было сшито руками мамы или куплено в магазине. Но этот пиджак! Ему даже в «фонд обороны» не суждено было попасть.
Расставшись с пиджаком и прочими излишествами, я попал в следующую комнату, где шестеро солдат быстро оформили нас «под нулевку». Получили по кусочку мыла величиной с половину спичечного коробка и прошли через следующую дверь с все более облегченным телом и более отягощенной душой.
Встали по два человека под каждый душ. После чьей-то команды полилась вода. Я пытался получше намылить оголенную после месячного копчения и пыления голову, но меня отвлекла небольшая косточка, пребольно вонзившаяся из мыльного куска.
Пока я пришел в себя и извлек кость из мыла, мылся мой напарник. Видя, что голову я оцарапал до крови, он уступил мне место под душем, но в это время вода перестала литься. Вместо нее была подана команда:
– Выходи быстро в следующее помещение.
Я туда пошел со слабой надеждой увидеть там тазы с водой, но нам раздали вафельные полотенца размером 25х50 см и нательное белье размером на двоих или троих таких, как я.
Стуча зубами от холода, утерлись и оделись. В следующей комнате получили все остальное солдатское обмундирование, в том числе «будёновки» – шлемы с шишаками на темени и старые шинели со штопками, заплатами и плохо промытыми бурыми пятнами.
Самое непонятное было с обмотками. Местные инструкторы нас смогли обучить только настолько, сколько требовалось, чтобы не выносить обмотки из бани в руках. Эта наука мотать «двухметровые голенища» нас еще ждала впереди, как минимум на протяжении 3-4 месяцев. Долго еще нам приходилось нервничать или смеяться над другом, когда, одеваясь по тревоге, мы выпускали из рук рулон этого «голенища», имеющий неукротимую привычку быстро разматываться по полу среди копошащихся и спешащих наших коллег. Тогда для того, чтобы намотать эту «змеюку» на ногу, надо ее снова свернуть в рулон. А это же время! Да еще кто-нибудь «ненароком» наступит на нее. Все это в темноте, при тусклом свете коптилок с ружейным маслом!
Но все это было еще впереди. Пока мы окончательно облачились во все солдатское, и вышли из этого барака-конвейера через двери в противоположном от входа конце.
Каждый искал своих товарищей, но по внешности найти не мог. Я тоже обошел всю толпу новоиспеченных солдат, стоял и озирался во все стороны, но не нашел своего друга. Тогда я громко позвал его по имени. Оказалось, что он стоит рядом со мной и тоже (как и все) озирается, но в поисках меня. Немудрено было наше повальное неузнавание. Большие и старые шинели на нас висели балахонами, прославленные, но непривычные буденовки с шишаками закрывали всю голову, затылок и подбородок, обрамляя впервые за месяц (и более) чисто отмытые наши лица. В таком виде нас построили и привели «домой» в наши полуземлянки.
После ужина состоялось возвращение мешочков с махоркой. Эта процедура происходила так. Старшина брал из своей каптерки один мешочек, поднимал его над головой и спрашивал :
– Чей?
Это был более чем странный вопрос, так как при сдаче мешков в каптерку, он сам требовал, чтобы каждый написал химическим карандашом свою фамилию. Но оказалось, он знал, что делал. Если никто не отзывался на его вторичный вопрос, мешок летел обратно в каптерку, но в другой угол. А узнать свои мешки было непросто, потому, что они уменьшились почти наполовину. Не признавших свои мешки набралось немало. Я узнал свой мешочек по белизне и по буквам на нижней половине мешка (верхняя половина была уже под завязкой). Развязав мешок, я убедился еще и в отсутствии новых теплых перчаток, которые мама дала в запас. На мои наивные попытки вернуть их себе, ответ был краток – «никаких перчаток не было!» Так была решена проблема мешочков.
После отбоя мы услышали осторожное похрустывание со стороны постелей наших младших командиров. Наутро более дотошные новобранцы обнаружили под их соломенными тюфяками еще по одной наволочке, но не с соломой, а с сухарями. Они то и хрустели в зубах командиров, укрытых с головой одеялами. Так была решена судьба наших сухарей.
Дальше пошла наша курсантская жизнь. Мы были в отдельном батальоне, где готовили младших командиров для всей дивизии.
Наступила весна. Теперь реже стали ходить в тайгу за дровами, но старшина задумал строительство «летней резиденции» для себя. Для этого, в течение нескольких недель, ежедневно, после занятий военной подготовкой ходили в тайгу за жердями. Нужно было отобрать ровные и определенной толщины молодые деревья, срубить их, очистить и принести на «стройплощадку». Близко рубить нельзя, а далеко в тайге разбредаться в поисках нужного молодого дерева небезопасно. Можно так забрести, что и не выбредешь. Да и нести длинные жердины через тайгу – проблема. Но все же построили большой сарай из жердей, покрытый жердями и хвоей. Это строительство доставило удовольствие одному человеку из всей роты – ротному старшине.
Про него можно было бы рассказать очень много. Забегая вперед, скажу лишь, что нашелся человек, который вывел на чистую воду его проделки. Воровство обмундирования, постельных принадлежностей, махорки; использование солдат в корыстных целях (в том числе и «запрягание» солдат в плуг для посадки капусты) и ряд других пакостей, которые не перечесть, были выявлены. Но нашелся и другой человек, который все это «спустил на тормозах», а старшина отделался разжалованием и отправкой в автороту дивизии водителем.
Глава 9 Военврач
Как и в любой воинской части, в нашем батальоне был военврач – капитан медицинской службы. Фамилию капитана я не помню. Фамилии военнослужащих запоминаются хорошо потому, что при докладах и рапортах они называют свою фамилию в конце доклада.
Доклады строевых командиров старшим командирам солдаты слышат часто. Это происходит в их присутствии. А доклад военврача можно и ни разу не услышать.
Фамилию капитана не знали, но офицеры батальона обращались к военврачу просто – «Роза Сабитовна». В это обращение они вкладывали и уважение и нежность. Роза Сабитовна была несколько близорука, но очки надевала только при чтении. Поэтому без очков она смотрела чуточку прищурившись. Это придавало ей еще больше привлекательности. Офицеры были в нее влюблены, а солдаты (вчерашние пацаны) смотрели на нее как на нечто недосягаемое, божество. Разница в возрасте и звании не допускала влюбленности в обычном понятии.
Роза Сабитовна несколько раз останавливала меня, когда я бежал исполнять приказание какого-либо своего командира, словами:
– Сагитов, почему Вы бежите?
При этом она смотрела через свой обычный прищур и останавливала меня за плечо или за руку. Слова она произносила медленно и ласково.
– Выполняю приказание, товарищ капитан, – отвечал я обычно.
– Не надо бегать! Выполняйте шагом, Вы такой худенький.
Она была права. Через год службы я весил 39 кг 800гр.
В конце января 1944 года Роза Сабитовна пришла в нашу казарму во время занятий на турнике (кусок трубы между двумя столбами землянки). Постояла, посмотрела, как многие из нас трепыхались на трубе, безнадежно пытаясь забросить ноги на нее. Это скорее напоминало развешенное для сушки нижнее белье при слабом ветре.
После моей попытки забросить свои кости на трубу, Роза Сабитовна подозвала меня к себе и задала несколько вопросов о моем здоровье. Затем нажала на правый бок живота и спросила, больно ли. Я ответил утвердительно. Она велела мне завтра прийти в медпункт и ушла.
На другой день я получил направление в госпиталь с диагнозом «аппендицит» и после обеда отправился туда в сопровождении санитарного инструктора нашей роты.
Операция прошла удачно, шов начал зарастать, но сантиметра 2-3 не зарастало дней 10-12. В конце концов, во время очередной перевязки из ранки показался конец длинной нитки от тампона. Нитка была извлечена, и ранка вскоре зажила.
Из палаты выписывают в команду выздоравливающих. Там выполняют некоторые легкие работы, набираются сил и затем отправляются в свою часть.
Обычно в этой команде бывают 1-2 недели. Но командир медсанбата продержал меня больше. Теперь я уверен, что это тоже было сделано не без участия Розы Сабитовны.
В свою часть я вернулся в марте 1944 года значительно окрепшим. В батальоне остались только командиры. Курсанты были из вновь прибывшего состава 1926 года рождения.
Весь рядовой состав 1925 года был отправлен на западный фронт. Вскоре начали получать письма с сообщениями, кто убит или ранен из состава нашей роты.
Читать о гибели товарищей, оставленных мной в этой землянке при уходе в госпиталь, было и странно и жутко.
Так вмешалась в мою судьбу военврач, капитан медицинской службы Роза Сабитовна, ставшая вскоре Федосимовой, т.е. женой нашего командира роты.
А мне по возвращении из госпиталя присвоили звание младшего сержанта. Я стал командиром отделения. Через 2 месяца получил звание сержанта и начал обучать курсантов воинскому делу в должности помощника командира взвода.
Глава 10
Тяжелая учеба и легкие бои
Обучение нового пополнения стали проводить особенно интенсивно. Нарушения границы японцы начали совершать все чаще, а у нас курсанты еще не приняли присяги.
Принимать участие в боевых операциях необученным и не принявшим воинской присяги солдатам не разрешалось.
Поэтому обучение проходило на пределах физических возможностей, чтобы быстрей подготовить людей. Подготовили несколько позиций для каждой роты с блиндажами и ходами сообщений «в полный профиль». Только одна эта работа при полускальных и скальных грунтах с переноской крепежного леса не менее чем за 1 километр, истощала людей до предела.
Кроме того, боевая подготовка, марш-броски, почти еженощные боевые тревоги с броском до позиций – от 2 до 8 км! Даже самому сейчас не верится, что можно выдержать такую нагрузку при далеко не курортном питании и бытовых условиях.
Были случаи, когда за одну ночь объявлялось до трех боевых тревог. В этих случаях спать удавалось 3-4 раза не более чем по 20-30 минут.
Из-за истощения случались и драматические и трагические происшествия. На стрельбище появилась какая-то собака. Командир части для собственной тренировки выстрелил в нее из пистолета с 50 метров. Один из самых крупногабаритных солдат побежал к ней. Командир окликнул его, но тот на ходу крикнул, что он снимет с собаки шкуру. Командир разрешил. Наутро под подушкой этого солдата обнаружили два котелка вареной собачатины. Один котелок был наполовину опорожнен. Солдат получил пять суток гауптвахты, где страдал расстройством желудка.
Другой солдат был застигнут замполитом в кустах, когда варил картофельную шелуху с выброшенными на свалку побелевшими жабрами соленой кеты. Этот солдат тоже попал на гауптвахту.
Один часовой, охранявший продовольственный склад, поднял половицу снизу, проник в склад и набрал 3-4 кг печенья, предназначенного для дополнительного пайка офицерам. Показательное заседание военного трибунала определило 8 лет заключения без права отправки на западный фронт.
Это запрещение отправки было не случайным, так как почти весь сержантский состав (в том числе и я) неоднократно писали рапорты с просьбой отправить на западный фронт, но получали отказ. Если бы трибунал не сделал в приговоре такой оговорки, могли начаться повальные преступления.
После принятия присяги молодым пополнением наш батальон начал принимать участие в отражении и ликвидации мелких групп японцев, нарушавших границу. Обычно их было от взвода до роты. Изредка больше.
Занятия и тревоги продолжались, но теперь мы не знали, когда учеба, когда бой. При каждой тревоге с собой были по 2 диска к автомату и по 2 гранаты. Они могли пригодиться в любую минуту.
К физическим перегрузкам добавились психологические. Дошло до того, что когда выяснялось, что тревога учебная, все были разочарованы и злы. Удовлетворения от того, что принес пользу и уничтожил или отбил врага – не было. Была злость за то, что напрасно не дали поспать.
В период особо сильной психологической нагрузки произошли два печальных случая. Один солдат застрелился, когда стоял на посту часовым. А через несколько дней один хороший парень во время перестрелки с японцами встал во весь рост и пошел на японцев, строча из автомата «с бедра». Парень явно напросился на пулю.
Зимой через р. Уссури японцы начали перегонять стада кабанов, изредка – косуль. Иногда среди них, особенно среди косуль, проникали к нам японцы, накрытые шкурой. Чаще всего, как нам объясняли, это делалось не для сопровождения диверсантов, а для распространения у нас различных эпидемий через зараженных животных. В том и другом случае эти животные расстреливались до единого, если не убегали обратно к японцам.

