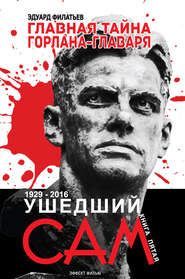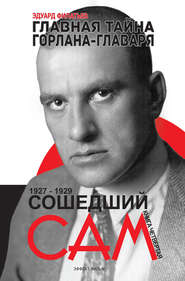По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Главная тайна горлана-главаря. Сошедший сам
Жанр
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы спорим, / аж глотки просят лужения,
мы / задыхаемся / от эстрадных побед,
а у меня к вам, товарищи, / деловое предложение:
давайте / устроим / весёлый обед!..
Бросим / друг другу / шпильки подсовывать,
разведём / изысканный / словесный ажур.
А когда мне / товарищи / предоставят слово —
я это слово возьму / и скажу:
– Я кажусь вам / академиком / с большим задом,
один, мол, я / жрец / поэзий непролазных.
А мне / в действительности / единственное надо —
чтоб больше поэтов / хороших / и разных».
Завершалось «Послание» ещё одним призывом, с которым (если у слова «власть» прилагательное «поэтическую» заменить «политическим»), вполне можно было обратиться и к партийным фракционерам:
«Чем нам / делить / поэтическую власть,
сгрудим / нежность слов / и слова-бичи,
и давайте / без завистей / и без фамилий / класть
в коммунову стройку / слова-кирпичи.
Давайте, / товарищи, / шагать в ногу.
Нам не надо / брюзжащего / лысого парика!
А ругаться захочется — / врагов много
по другую сторону / красных баррикад».
В июне 1926 года в Москве появились вернувшиеся из экспедиции по Центральной Азии Николай Рерих и Яков Блюмкин. Блюмкин привёл Рериха к Луначарскому, жена которого, Наталья Розенель, впервые увидела «этого недоброго колдуна с длинной седой бородой» и записала об этом в дневнике.
А Рерих оставил в своих путевых заметках такую запись:
«Луначарский говорит: “Ведь у нас до сих пор ещё, несмотря на сердитый окрик <…>, распространено представление о том, что культура вплоть до возникновения элементов культуры пролетарской, сплошь «буржуазна»… Порой, слушая таких людей, можно подумать, что мы не ученики Маркса, <…> а ученики какого-то своеобразного Савонаролы, <…> боящиеся всякой радости жизни и готовые собрать на площади им. Свердлова большой костёр для сожжения «Суеты сует»”.
Здесь уместно припомнить, как непосредственно и как подчёркнуто возвращался Владимир Ильич к идее о необходимости усвоить старую культуру вплоть до старого искусства… И народы складывают ленинскую легенду не только по прописи его постулатов, но и по качеству его устремления».
После этой записи невольно задумаешься, пытаясь отгадать, а во что, собственно, верил сам Николай Рерих.
Кроме Луначарского Рерих встретился с руководителями ОГПУ и с наркомом по иностранным делам Чичериным, которому передал ларец со священной землёй Гималаев «на могилу брата нашего махатма Ленина» (дар от буддийских махатм).
А Владимир Маяковский 19 июня выехал в Одессу. На следующий день газета «Известия ЦИК» опубликовала его стихотворение «Фабрика бюрократов», которое било по партийным фракционерам. Начиналось оно так:
«Его прислали / для проведенья режима.
Средних способностей. / Средних лет.
В мыслях – планы. / В сердце – решимость.
В кармане – перо / и партбилет.
Ходит, / распоряжается энергичным жестом.
Видно — / занимается новая эра!»
Но канцелярию переделать невозможно, и «присланный» партиец сам вскоре оказывается в рядах бюрократов (фракционеров?), которым в стихотворении выносится чуть ли не приговор:
«Рой чиновников / с недели на день
аннулирует / октябрьский гром и лом,
и у многих / даже / проступают сзади
пуговицы / дофевральские / с орлом».
То есть поэт как бы впрямую заявлял о том, что фракционеры тянут страну назад – в царские времена.
23 июня 1926 года в одесском Летнем саду имени Луначарского состоялось первое выступление Маяковского с докладом «Моё открытие Америки».
На следующий день в вечернем выпуске местной газеты «Известия» был напечатан отчёт об этом вечере:
«Маяковский не только большой поэт, но и блестящий ум, которому огромная наблюдательность и художественное воображение помогают всякое отвлечённое понятие представить в живой и образной форме. И, затем, лёгкость и мастерство речи поэта, в соединении с фейерверком остроумия…
В его наблюдениях над жизнью и социальными условиями в Соединённых Штатах и в Мексике столько нового и оригинального, что он действительно вновь "открывает" для слушателей Америку.
Не меньший интерес представило и второе отделение вечера, на котором Маяковский с большой выразительностью и с чувством такта прочёл ряд своих новых стихотворений.
Имел шумный успех и наш местный поэт – Кирсанов, читавший свои стихи».
К двадцатилетнему одесситу Семёну Исааковичу Кортчику, выступавшему под псевдонимом Кирсанов, Маяковский приглядывался очень внимательно.
25 июня Владимир Владимирович вновь выступил в Летнем саду имени Луначарского, но на этот раз в крытом театре. 26-го встретился с рабкорами в редакции одесских «Известий». А 27 июня состоялось последнее выступление поэта – всё в том же Летнем саду, но уже в театре «Дворец моряка». Хотя местные «Известия» разрекламировали лекции Маяковского, что называется, по самому высокому разряду, одесситы на этот вечер валом не валили.
В «Хронике жизни и деятельности Маяковского» никаких комментариев об этом мероприятии нет. А между тем оно стало для поэта судьбоносным – так, во всяком случае, считал Павел Лавут, тогда мало кому известный 28-летний актёр, который в декабре 1921 года познакомился с поэтом в Харькове на вечере «Дювлам».
Вот что написал Лавут о том, что происходило 27 июня в Летнем саду:
мы / задыхаемся / от эстрадных побед,
а у меня к вам, товарищи, / деловое предложение:
давайте / устроим / весёлый обед!..
Бросим / друг другу / шпильки подсовывать,
разведём / изысканный / словесный ажур.
А когда мне / товарищи / предоставят слово —
я это слово возьму / и скажу:
– Я кажусь вам / академиком / с большим задом,
один, мол, я / жрец / поэзий непролазных.
А мне / в действительности / единственное надо —
чтоб больше поэтов / хороших / и разных».
Завершалось «Послание» ещё одним призывом, с которым (если у слова «власть» прилагательное «поэтическую» заменить «политическим»), вполне можно было обратиться и к партийным фракционерам:
«Чем нам / делить / поэтическую власть,
сгрудим / нежность слов / и слова-бичи,
и давайте / без завистей / и без фамилий / класть
в коммунову стройку / слова-кирпичи.
Давайте, / товарищи, / шагать в ногу.
Нам не надо / брюзжащего / лысого парика!
А ругаться захочется — / врагов много
по другую сторону / красных баррикад».
В июне 1926 года в Москве появились вернувшиеся из экспедиции по Центральной Азии Николай Рерих и Яков Блюмкин. Блюмкин привёл Рериха к Луначарскому, жена которого, Наталья Розенель, впервые увидела «этого недоброго колдуна с длинной седой бородой» и записала об этом в дневнике.
А Рерих оставил в своих путевых заметках такую запись:
«Луначарский говорит: “Ведь у нас до сих пор ещё, несмотря на сердитый окрик <…>, распространено представление о том, что культура вплоть до возникновения элементов культуры пролетарской, сплошь «буржуазна»… Порой, слушая таких людей, можно подумать, что мы не ученики Маркса, <…> а ученики какого-то своеобразного Савонаролы, <…> боящиеся всякой радости жизни и готовые собрать на площади им. Свердлова большой костёр для сожжения «Суеты сует»”.
Здесь уместно припомнить, как непосредственно и как подчёркнуто возвращался Владимир Ильич к идее о необходимости усвоить старую культуру вплоть до старого искусства… И народы складывают ленинскую легенду не только по прописи его постулатов, но и по качеству его устремления».
После этой записи невольно задумаешься, пытаясь отгадать, а во что, собственно, верил сам Николай Рерих.
Кроме Луначарского Рерих встретился с руководителями ОГПУ и с наркомом по иностранным делам Чичериным, которому передал ларец со священной землёй Гималаев «на могилу брата нашего махатма Ленина» (дар от буддийских махатм).
А Владимир Маяковский 19 июня выехал в Одессу. На следующий день газета «Известия ЦИК» опубликовала его стихотворение «Фабрика бюрократов», которое било по партийным фракционерам. Начиналось оно так:
«Его прислали / для проведенья режима.
Средних способностей. / Средних лет.
В мыслях – планы. / В сердце – решимость.
В кармане – перо / и партбилет.
Ходит, / распоряжается энергичным жестом.
Видно — / занимается новая эра!»
Но канцелярию переделать невозможно, и «присланный» партиец сам вскоре оказывается в рядах бюрократов (фракционеров?), которым в стихотворении выносится чуть ли не приговор:
«Рой чиновников / с недели на день
аннулирует / октябрьский гром и лом,
и у многих / даже / проступают сзади
пуговицы / дофевральские / с орлом».
То есть поэт как бы впрямую заявлял о том, что фракционеры тянут страну назад – в царские времена.
23 июня 1926 года в одесском Летнем саду имени Луначарского состоялось первое выступление Маяковского с докладом «Моё открытие Америки».
На следующий день в вечернем выпуске местной газеты «Известия» был напечатан отчёт об этом вечере:
«Маяковский не только большой поэт, но и блестящий ум, которому огромная наблюдательность и художественное воображение помогают всякое отвлечённое понятие представить в живой и образной форме. И, затем, лёгкость и мастерство речи поэта, в соединении с фейерверком остроумия…
В его наблюдениях над жизнью и социальными условиями в Соединённых Штатах и в Мексике столько нового и оригинального, что он действительно вновь "открывает" для слушателей Америку.
Не меньший интерес представило и второе отделение вечера, на котором Маяковский с большой выразительностью и с чувством такта прочёл ряд своих новых стихотворений.
Имел шумный успех и наш местный поэт – Кирсанов, читавший свои стихи».
К двадцатилетнему одесситу Семёну Исааковичу Кортчику, выступавшему под псевдонимом Кирсанов, Маяковский приглядывался очень внимательно.
25 июня Владимир Владимирович вновь выступил в Летнем саду имени Луначарского, но на этот раз в крытом театре. 26-го встретился с рабкорами в редакции одесских «Известий». А 27 июня состоялось последнее выступление поэта – всё в том же Летнем саду, но уже в театре «Дворец моряка». Хотя местные «Известия» разрекламировали лекции Маяковского, что называется, по самому высокому разряду, одесситы на этот вечер валом не валили.
В «Хронике жизни и деятельности Маяковского» никаких комментариев об этом мероприятии нет. А между тем оно стало для поэта судьбоносным – так, во всяком случае, считал Павел Лавут, тогда мало кому известный 28-летний актёр, который в декабре 1921 года познакомился с поэтом в Харькове на вечере «Дювлам».
Вот что написал Лавут о том, что происходило 27 июня в Летнем саду: