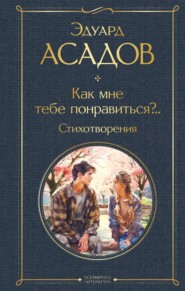По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Стихотворения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Русалки уплыли из шумных рек.
Зачем теперь мифы и чудеса?!
Кругом телевизоры, пылесосы,
И вот домовые, лишившись спроса,
По слухам, ушли из домов в леса.
А город строился, обновлялся:
Все печи – долой и старье – долой!
И вот наконец у трубы остался
Последний в городе домовой.
Средь старых ящиков и картонок,
Кудлатый, с бородкою на плече,
Сидел он, кроха, на кирпиче
И плакал тихонечко, как котенок.
Потом прощально провел черту,
Медленно встал и полез на крышу.
Уселся верхом на коньке, повыше,
И с грустью уставился в темноту.
Вздохнул обиженно и сердито
И тут увидел мое окно,
Которое было освещено,
А форточка настежь была открыта.
Пускай всего ему не суметь,
Но в кое-каких он силен науках.
И в форточку комнатную влететь
Ему это плевая, в общем, штука!
И вот, умостясь на моем столе,
Спросил он, сквозь космы тараща глазки:
– Ты веришь, поэт, в чудеса и сказки?
– Еще бы! На то я и на земле.
– Ну то-то, спасибо, хоть есть поэты.
А то ведь и слова не услыхать.
Грохочут моторы, ревут ракеты,
Того и гляди, что от техники этой
И сам, как машина, начнешь рычать!
Не жизнь, а бездомная ерунда:
Ни поволшебничать, ни приютиться,
С горя нельзя даже удавиться,
Мы же – бессмертные. Вот беда!
– Простите, – сказал я, – чем так вот маяться,
Нельзя ли на отдых! Ведь вы уж дед!
– Э, милый! Кто с этим сейчас считается?!
У нас на пенсию полагается
Не раньше, чем после трех тысяч лет.
Где вечно сидел домовой? В тепле.
А тут вот изволь наниматься лешим,
Чтоб выть, словно филин, в пустом дупле
Да ведьм непотребностью всякой тешить.
То мокни всю ночь на сучке в грозу,
То прыгай в мороз под еловой шапкой. —
И крякнув, он бурой мохнатой лапкой