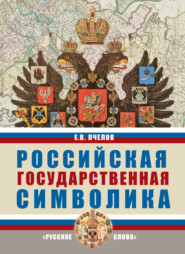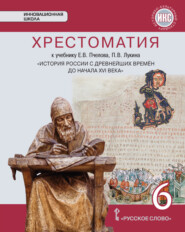По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История России языком дворянских гербов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я в сем деле великим искусством хвалиться не могу, понеже я никогда особливого старания к герольдике не имел <…> и никогда профессором геральдики не бывал, и сюда не за тем призван <…> Однако ж я, сколько мне возможно, в том стараться буду; но при том прошу, ежели мне в чем погрешить случится, чтоб оное благосклонно извинено было.
Тем не менее он «сочинял» гербы для знамен морских и слободских полков, а в конце 1734 года создал проект рисунка для печати Академии наук (с изображением Минервы), который был утвержден в начале 1735 года. Он стал автором труда, созданного для обучения геральдике Петра II и, по оценке академика Г.-Ф. Миллера (1705–1783), представлявшего собой «полную и в то же время компактную систему, особенно полезную для разъяснения специальных терминов из латинского, немецкого и французского языков». Этот труд был опубликован в 1731 году в Петербурге на немецком языке под названием Kurtze Einleitung zur Wappen-Kunst und zur Art des Blasonirens («Краткое введение в геральдику и искусство составления гербов»).
В 1740-х годах в геральдическую деятельность включился замечательный ученый Василий Евдокимович Адодуров (1709–1780), сначала в качестве советника конторы (с 1741 года), а затем и герольдмейстера (1753–1759). Адодуров, учившийся в Славяно-греко-латинской академии, а затем в гимназии при Петербургской академии наук, был первым русским по происхождению ученым в составе Академии наук (адъюнктом по кафедре высшей математики). В 1736 г. ему поручили надзор за прибывшими из Москвы учениками академической гимназии, среди которых находился и М. В. Ломоносов. Одновременно с физикой и математикой Адодуров занимался литературной деятельностью, переводами и изучением русского языка. Ему принадлежит первая русская грамматика на родном языке, написанная в 1738–1741 годах, однако, тогда не опубликованная (ее исследованию посвящена известная книга Б. А. Успенского). В 1744 году Адодурова произвели в коллежские советники и по рекомендации графа К. Г. Разумовского назначили преподавателем русского языка к будущей императрице Екатерине II.После восшествия ее на престол Адодуров стал президентом Мануфактур-коллегии в Москве и куратором Московского университета, которым оставался до 1778 года. К концу жизни он дослужился до чина действительного тайного советника.
Адодуров руководил разработкой более двухсот новых дворянских гербов для лейб-компанцев, участников переворота 1741 года, и подготовкой соответствующих дипломов на дворянство. Он увеличил штат художников в Герольдмейстерской конторе, начал формирование специальной библиотеки по геральдике и генеалогии, собирал составленные ранее гербы, находившиеся в различных учреждениях, наладил связи с другими правительственными структурами.
В эпоху Екатерины Великой особое внимание уделялось созданию городских гербов (б?льшая часть дореволюционных гербов этого типа была разработана именно в это время). Но предпринимались попытки систематизации и дворянской геральдики. Об этом свидетельствуют дошедшие до нас гербовники, составителями которых были А. А. Греков, А. Т. Князев и Л. И. Талызин. Первый из этих гербовников был придворным, второй – инициативным и только третий носил более-менее официальный характер.
Художник Андрей Ангилеевич Греков, учитель рисования великого князя Павла Петровича, в 1769 году составил небольшой гербовник под названием «Собрание гербов всех находящихся при дворе Его Императорского Высочества» (то есть при дворе Павла Петровича), куда вошло всего 13 гербов (по-видимому, первоначально их было около 18). Гербовник носил частный характер и был связан, вероятно, с наметившимся интересом Павла к рыцарству и рыцарской культуре. Гербовник Грекова был совершенно неизвестен вплоть до середины 1930-х годов, когда его владелец представил рукопись на собрании эмигрантского Русского историко-генеалогического общества в Париже. Правда, полностью она не опубликована и в настоящее время находится в частных руках.
Другой гербовник был составлен по инициативе статского советника Анисима Титовича Князева (1722–1792); он назывался «Собрание фамильных гербов, означающих отличие благородных родов обширныя Российския Империи, частно снятое с печатей и приведенное в алфабетной порядок». Князев, служивший почти четверть века в межевых учреждениях, считался знатоком разного рода документальных материалов, в частности дворянского законодательства и родословных, много работал в архивах, в том числе по поручению Екатерины. Ведя по долгу службы переписку с представителями разных дворянских родов, он составил собрание гербов, копируя их с личных печатей дворян, которыми те скрепляли документы. В 1785 году Князев преподнес свое творение императрице, стремясь, видимо, придать ему официальный статус. Рукопись попала в библиотеку Г. А. Потемкина, откуда поступила в книжное собрание Казанского университета, где и была обнаружена только в конце XIX века. Гербовник Князева был впервые опубликован замечательным геральдистом и искусствоведом С. Н. Тройницким в 1912 году. Всего в гербовнике (оригинал которого выполнен в цвете) помещено 533 рисунка гербов лиц, принадлежавших к 379 дворянским фамилиям. В него вошло большое число неофициальных эмблем и гербов, не соответствующих позднее утвержденным гербам тех же родов. В некоторых случаях, впрочем, атрибуции Князева оказались ошибочными.
Наконец, третий гербовник «Руководство к геральдике, то есть науке о гербах, содержащее происхождение, основание и нужные правила науки сей относительно до гербов Российских с начертанием и описанием оных» был составлен в Герольдмейстерской конторе. Его составителем был бригадир Лукьян Иванович Талызин, в 1783 году назначенный «правящим» (то есть исполняющим) должность герольдмейстера. «Руководство» Талызина датируется началом 1790-х годов; поднесенный императрице экземпляр с цветными изображениями гербов хранится в Российской национальной библиотеке (дворянские гербы из него были изданы в 2021 году). В «Руководстве» рассказывается об истории геральдики в Западной Европе и России, дается изложение теоретической геральдики, включая толкования эмблем, правила составления гербов и т. д. Затем следуют описания российских гербов, в том числе государственного, городских и 16 дворянских «для примеров, служащих к изъяснению предлагаемого руководства к геральдике», в которых, кстати, приводится объяснение помещенных в гербах фигур (чего не делалось позднее в официальном гербовнике российского дворянства). Наконец, последняя часть представляет собой сам гербовник, то есть рисунки гербов государственного, титульных, 459 городских, утвержденных в 1772–1790 годах, и 446 родовых гербов дворянства. Такое количество дворянских гербов свидетельствует о весьма активном герботворчестве в XVIII веке.
Однако эти труды меркнут перед грандиозным начинанием императора Павла I, который сыграл судьбоносную роль в истории российской дворянской геральдики.
20 января 1797 года, то есть спустя всего два месяца после своего восшествия на престол и еще до коронации, состоявшейся на Пасху того же года, новый император подписал указ о составлении «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской Империи».
Гербовник должен был стать официальным собранием утвержденных императором родовых и личных гербов российского дворянства. Очередные части (тома) комплектовались по мере составления и утверждения гербов, а внутри каждой части гербы группировались по статусу владельцев. Всего в Гербовнике насчитывалось три «отделения»: первое включало гербы титулованных родов и древних родов, принадлежавших к дворянству еще до петровского указа о единонаследии 1714 года, уравнявшего вотчины и поместья; второе – гербы дворян, возведенных в это достоинство русскими императорами; третье – гербы дворян, получивших дворянство по чину или по ордену, то есть по службе. Каждый герб изображался в цвете, после чего шло его словесное описание и краткая информация о происхождении рода, которому он принадлежал (с упоминанием о происхождении дворянского достоинства носителей). Объяснение элементов и деталей герба в официальном описании отсутствовало и возможно лишь при обращении к другим источникам, в том числе архивным материалам Герольдии.
Центральным принципом формирования Гербовника стала идея службы государю. Первыми шли «природные» княжеские роды потомков Рюрика, Гедимина и других правителей, затем роды располагались «по старшинству» службы, а не в алфавитном порядке фамилий гербовладельцев, хотя в конце каждой части прилагался алфавитный указатель.
Общее наблюдение за созданием Гербовника было возложено на генерал-прокурора князя Алексея Борисовича Куракина, работой над первыми частями руководил обер-прокурор Третьего департамента Сената, получивший известность на литературном поприще, будущий министр внутренних дел при Александре I Осип Петрович Козодавлев. Его помощником стал особый чиновник – ваппенрихтер (гербовый судья) Матвей Федорович Ваганов, подготовивший первые девять частей этого масштабного труда. 27 мая 1800 года Герольдмейстерская контора обрела статус коллегии и получила официальное наименование Герольдии.
Под стать содержанию был и внешний вид томов. Гербы в первых 12 частях изображались на пергамене (позднее в качестве материала использовалась плотная, так называемая бристольская бумага), первые десять частей были переплетены в малиновый бархат с вышитым золотом государственным гербом. Указ 1861 года изменил внешнее оформление переплета (в соответствии с изменениями государственного герба): теперь малый государственный герб Российской империи (черный двуглавый орел с регалиями и титульными гербами) помещался на золотом глазете, а по углам переплета располагались металлические вставки. Над рисунками гербов работали замечательные художники-геральдисты: сами гербы «Общего гербовника» выполнены на очень высоком художественном уровне в стиле, характерном для соответствующей эпохи.
Работа над первыми частями велась весьма интенсивно. Уже в новолетие 1 января 1798 года Павел утвердил первую часть «Общего гербовника», вторую – 30 июня того же года (на следующий день после своего тезоименитства), еще две части – в 1799 году, пятую – в 1800 году. Шестую часть утвердил уже Александр I в июне 1801 года, в его царствование были утверждены еще три части: в 1803, 1807 и 1816 годах. При Николае I была утверждена только одна часть, десятая, и то только в 1836 году, после чего создание Гербовника приостановилось. Составление 11-го тома затянулось из-за серьезного кризиса Герольдии и незначительного внимания к геральдике со стороны высшей власти. Первые десять частей Гербовника были отпечатаны (в черно-белом гравированном варианте) в 1799–1840 годах.
В начальные годы правления Александра II геральдическая деятельность вновь оживилась: в 1863 году была утверждена 11-я часть, еще три части – при Александре III (1882, 1885, 1890) и пять – при Николае II (1895, 1901, 1904, 1908, 1914). Двадцатая часть была составлена в Герольдии уже при Временном правительстве с конца марта по ноябрь 1917 года и включала гербы, утвержденные вплоть до 3 февраля 1917 года. Нужно отметить, что после Павла I каждый новый император, за исключением Николая I, считал необходимым ознаменовать начало своего правления утверждением новых гербов (государственных или дворянских), что видно и на примере «Общего гербовника».
Последние десять частей Гербовника (с 11-й по 20-ю) остались неопубликованными. В период после Февральско-мартовской революции 1917 года дворянские гербы продолжали утверждаться, но уже Сенатом, а не императором (о чем в мае 1917 года Временным правительством было принято соответствующее постановление). В 1918–1919 годах последний руководитель дореволюционной Герольдии В. К. Лукомский (о котором речь впереди) собрал и переплел эти гербы в так называемую XXI часть «Общего гербовника», которая имеет название «Собрание Всероссийского дворянства гербов, утвержденных Правительствующим сенатом 1 июня – 22 ноября 1917 г.». Эта последняя часть «Общего гербовника» меньше остальных по объему и состоит из 61 герба (предшествующие части включали от 135 до 186 гербов). Разумеется, этот том также не был опубликован.
Количество гербов в «Общем гербовнике» составляет 3127. Гербовник фиксировал не только гербы, но и информацию о происхождении и службе дворянских родов. Тогдашний уровень генеалогической науки и не слишком высокий профессионализм в этой области сотрудников Герольдии привели к тому, что в Гербовник оказались внесенными недостоверные, а зачастую откровенно фантастические сведения по генеалогии дворянских фамилий, в том числе многочисленные легенды о выездах их предков из зарубежных стран и земель. Тем не менее эти данные могут служить источником по истории генеалогических представлений, бытовавших в дворянской среде, и отношения к ним со стороны официальных властей.
Впрочем, далеко не все официально утвержденные гербы включены в «Общий гербовник». Существовало немало гербов российского дворянства, оформленных дипломами, которые были собраны в отдельный гербовник под названием «Сборник Высочайше утвержденных дипломных гербов Российского дворянства, не внесенных в Общий гербовник». Гербы в нем располагались в алфавитном порядке по фамилиям владельцев. Этот сборник состоит из двадцати частей (томов) и включает гербы, охватывающие временной промежуток от 1719 до 1915 года. Работа над первыми семнадцатью частями завершилась в 1894 году. Три тома дополнений собраны в 1896, 1904 и 1917 годах. В общей сложности в сборнике помещено еще 1569 дворянских гербов.
В середине XIX века началось составление «Гербовника Царства Польского». Царство Польское (со столицей в Варшаве) было образовано после окончания антинаполеоновских войн в соответствии с решением Венского конгресса на территории бывшего Варшавского герцогства. «Царство» считалось конституционной монархией (впоследствии этот статус существенно скорректировался), находящейся в унии с Российской империей. Польским «царем» являлся российский император. В 1836 году было введено Положение о дворянстве в Царстве Польском, заметно изменившее состав и структуру этого сословия. Тогда же при Государственном совете Царства Польского была образована своя герольдия, а в 1849 году началась работа по составлению гербовника польского дворянства. Руководил ею служивший в Государственном совете Царства Польского Николай Иванович Павлищев (1802–1879), женатый на Ольге Сергеевне Пушкиной, родной сестре Александра Сергеевича.
Польская родовая геральдика кардинально отличалась от родовой геральдики других европейских стран: в ней имелось определенное количество гербов, как правило, с довольно простыми изображениями, многие из которых имели тамгообразный вид и символизировали различные предметы. Каждый герб имел собственное наименование. При этом один и тот же герб могли использовать сразу несколько родов, иногда десятков, а то и сотен, в большинстве случаев не связанных общим происхождением и имевших разные фамилии. Так, к гербу Любич относилось около сотни родов (в их число входили, например, Добужинские, к которым принадлежал художник М. В. Добужинский), а к гербу Ястржембец (Ястршембец) – около 200 (это, в частности, был герб белого генерала В. З. Май-Маевского и великого физика М. Склодовской-Кюри, а род другого великого физика П. Л. Капицы использовал иной вариант того же герба. Герб Ястржембец был утвержден в Российской империи и за родственниками художника М. А. Врубеля). Такие гербовые сообщества именовались гербовнями. Эта система имеет своим источником особенности войсковой организации, когда под одним знаменем (с эмблематическим изображением) собиралась шляхта, состоявшая из родственников, соседей или (позднее) вассалов крупного феодала. Следует учесть, что польская шляхта среди дворянских сословий других стран выделялась своей многочисленностью по отношению к общему количеству населения и составляла около 10 % населения Речи Посполитой. В польской геральдике XVI–XVIII веков существовали гербовники, не утверждавшиеся королями, но пользовавшиеся высоким авторитетом в местном дворянстве и служившие зачастую одним из доказательств шляхетского происхождения. Существовало и явление так называемой адоптации, сродни нобилитации, когда род приписывался к тому или иному гербу. Таким образом, польская геральдика не была строго «индивидуализирована» по принципу «один род – один герб», хотя в ней и существовало некоторое число «собственных гербов» (herb wlasny), немногочисленных и принадлежавших преимущественно аристократическим фамилиям.
В Царстве Польском предполагалось составить дворянский гербовник, включавший примерно 650 гербов, которые использовали три с половиной тысячи дворянских родов; издание также мыслилось многотомным. Внутренняя структура гербовника отчасти напоминала структуру «Общего гербовника». Он состоял из трех разделов: в первый заносились титулованные дворянские роды, во второй – роды, являвшиеся дворянскими до 1836 года, в третий – получившие дворянство после 1836 года. При этом гербовник (в двух последних разделах) составлялся в порядке латинского алфавита по названиям гербов. Правда, он так и не был закончен. Первые две части были высочайше утверждены в 1850 и 1851 годах и изданы под названием Herbarz Krоlestwa Polskiego в Варшаве на польском и русском языках (параллельный текст). Эти части включили 246 гербов, принадлежавших 840 родам. Издание остановилось на букве J. Третья часть, которая включала 121 герб, была подготовлена, но так и не утверждена. После подавления Польского восстания начала 1860-х эта работа прекратилась. В 1870 году все дела о польском дворянстве и его гербах были переданы в ведение российской Герольдии. В 1910 году третью часть «Гербовника Царства Польского» издали В. К. Лукомский и С. Н. Тройницкий. В этом гербовнике можно найти гербы таких известных в культуре и науке родов, как графы Виельгорские, Доливо-Добровольские, Бялобржеские, Булгарины, Шанявские, Зайончковские и др.
В 1897 году был составлен в двух частях (но не издан) «Сборник дипломных гербов Польского дворянства, невнесенных в Общий Гербовник». Он включал 197 гербов (в алфавитном порядке, но на русском языке).
В общей сложности во всех четырех гербовниках Российской империи и Царства Польского было зафиксировано 5260 гербов. Но этим все многообразие дворянских гербов, бытовавших до революции, не исчерпывается. Общее число дворянских родов империи в начале XX века приближалось к 60 тысячам; таким образом, официальной родовой геральдикой была охвачена вряд ли 1/10 часть российского дворянства. Утверждение герба было делом хлопотным, требовало усилий, в том числе финансовых; многие дворяне, даже представители древних и титулованных родов, отнюдь не стремились официально получить герб; среди российского дворянства множество родов гербов не имели, а иные пользовались гербами неутвержденными (так называемыми самобытными), чьи изображения можно встретить на различных предметах – от личных печатей и гравированных портретов до предметов мебели и надгробных плит. Работа по собиранию таких гербов началась еще в дореволюционный период и продолжилась уже в 1920–1930-х годах. Ее энтузиастами были В. К. Лукомский и барон Н. А. Типольт. В результате был составлен сборник неутвержденных гербов (около 2 тысяч), материалы и варианты которого находятся в архивных собраниях России и за рубежом. Ученик В. К. Лукомского Василий Викторович Зенкевич (1901–1942), работавший под псевдонимом Цихинский (по названию герба, к которому принадлежал его шляхетский род) и по матери происходивший из рода князей Багратион-Мухранских, в 1922 году составил «Кавказский гербовник». Сохранившаяся его часть охватывает княжеские роды преимущественно грузинского происхождения (что обусловлено особенностями признания кавказских родов в княжеском достоинстве Российской империи). Источниками для Цихинского служили материалы Департамента герольдии, оттиски печатей, изображения гербов на надгробиях и т. д. Всего гербовник включает 131 герб 95 фамилий. Сам автор этого оставшегося неизданным труда скончался в ленинградской тюрьме в сравнительно молодом возрасте, разделив судьбу многих потомков дворянских фамилий в Советской России.
Новый подъем русской геральдики пришелся на последние годы царствования Николая I и начало правления Александра II. Во многом это было связано с общим курсом на усиление государственного патриотизма. Теория «официальной народности» требовала актуализации национального прошлого.
Именно при Николае I создается великая национальная опера «Жизнь за царя» М. И. Глинки, принимается первый русский официальный гимн «Боже, Царя храни!», визуальным воплощением возрождения культурных традиций допетровской Руси становится архитектура К. А. Тона, к 1849 году закончившего строительство Большого Кремлевского дворца. Народные мотивы входят в моду при дворе: достаточно вспомнить платья придворных дам и самой императрицы Александры Федоровны в национальном стиле, принятом уже на коронации Николая I. Особенно усилились эти мотивы после «Весны народов» 1848–1849 годов, отразившейся на политике российского правительства (в 1849 году русская армия совершила Венгерский поход, оказав помощь австрийской монархии в подавлении революции в Венгрии). Идея Русского царства как ответственного за судьбу православия во всем мире привела в середине 1850-х годов к открытому конфликту с Османской империей и Крымской войне, которая закончилась для России поражением. В преддверии Великих реформ новый император Александр II усилил курс на укрепление государственных начал в идеологии и подъем морального духа своих подданных.
Эта общая тенденция в культуре способствовала повышенному вниманию к истории и памятникам старины. Достаточно вспомнить о строительстве нового здания Оружейной палаты, где были выставлены исторические сокровища русских царей, в том числе древние государственные регалии; о роскошном издании «Древностей Российского государства, изданных по Высочайшему повелению…» (В 6 т. М., 1844–1853) с рисунками художника Ф. Г. Солнцева; о первых научных реставрациях-реконструкциях (на тогдашнем уровне науки) памятников русской старины, в том числе кремлевского Теремного дворца. Вся эта деятельность не могла не затронуть и геральдику как наиболее яркое и емкое воплощение государственной идеологии и истории.
В 1855 году в Петербурге вышел в свет первый научный труд по русской геральдике – «Русская геральдика» Александра Борисовича Лакиера (1824–1870), выпускника Московского университета, магистра права, служившего в Министерстве юстиции и затем в Сенате. Лакиер занимался историческими исследованиями, в том числе геральдикой, фалеристикой и историей монаршей титулатуры. За свою книгу он удостоился престижной Демидовской премии.
Во введении А. Б. Лакиер писал, что к созданию этого труда его побудило отсутствие в немногочисленной геральдической литературе истории именно отечественных печатей и гербов. Он обратился к изучению русских средневековых печатей, на которых помещались разнообразные эмблематические изображения. В этой эмблематике он и усматривал национальные истоки русской геральдики, и, хотя это было очевидным преувеличением, Лакиер, по сути, первым в исторической науке привлек внимание к допетровской геральдике, прежде всего государственной и территориальной. В частности, он впервые проанализировал историю российского государственного герба с точки зрения его составных элементов. Отдельные разделы его труда посвящены западноевропейской геральдике и ее происхождению, российским дворянским гербам и их систематизации. В целом он создал впечатляющую картину истории отечественной сфрагистики и геральдики, заложив прочный фундамент ее научного исследования. Для геральдической науки в России этот труд является таким же основополагающим, как «История…» Н. М. Карамзина для истории России. И хотя геральдика как наука со времен Лакиера ушла далеко вперед, его книга не утратила своего значения и периодически переиздается, зачастую в роскошном и, конечно, абсолютно ненаучном виде.
Еще в период правления Николая I в связи с административными преобразованиями и возросшим объемом работы произошло изменение внутренней структуры и статуса Герольдии. В 1832 году в Герольдии были учреждены три экспедиции (геральдикой занималась 1-я) и утвержден новый штат, а в 1848 году она была преобразована в департамент Сената. Из ведения нового департамента дела по гражданской службе передавались в другое подразделение, таким образом, вся работа Герольдии сосредоточилась на делах о дворянстве и почетном гражданстве (это было новое сословие, образованное в 1832 году). 10 июня 1857 года при канцелярии Департамента герольдии было образовано специальное Гербовое отделение, которое и занималось составлением гербов. Тем самым все вопросы официального герботворчества сконцентрировались в особом государственном учреждении – подразделении департамента во главе с управляющим, которым стал барон Борис Васильевич Кёне (1817–1886).
Человек он был весьма своеобразный, но русская геральдика (и не только геральдика) обязана ему очень многим. Бернгард Карл Кёне, уроженец Берлина еврейского происхождения, сын государственного архивариуса, учился в Лейпцигском и Берлинском университетах, занимался нумизматикой и после защиты диссертации получил звание приват-доцента Берлинского университета по кафедре нумизматики и археологии. Одновременно он являлся секретарем Берлинского нумизматического общества и руководил изданием его журнала. В Россию его пригласил известный нумизмат Я. Я. Рейхель, служивший в Экспедиции заготовления государственных бумаг. По его протекции Кёне в 1845 году был определен помощником начальника Первого отделения Императорского Эрмитажа (собрание антиков и монет). В Эрмитаже Кёне прослужил несколько десятилетий, с 1850 года – во Втором отделении музея (картинной галерее), и, кстати, выяснил историю покупки Екатериной II берлинской коллекции картин коммерсанта И. Э. Гоцковского в 1764 году (эта дата считается началом истории Эрмитажа). Безуспешно пытаясь попасть в состав Петербургской академии наук, Кёне в 1846 году организовал Археологическо-нумизматическое общество (позднее Русское археологическое общество), куда привлек многих крупных ученых, наладил издание его «Записок», активно пропагандировал общество на международной арене. Правда, в 1853 году неприязненное отношение нового руководителя общества великого князя Константина Николаевича заставило Кёне расстаться со своим детищем. Из-за стремления заручиться поддержкой высокопоставленных лиц, финансовых манипуляций на нумизматическом рынке и любви к всевозможным наградам, отличиям и званиям Кёне пользовался дурной репутацией. Однако служебная и научная его активность была совершенно потрясающей. Александр II всецело доверял его знаниям в области геральдики и фалеристики. Научные работы Кёне известны на семи языках. Наиболее существенная из них – «Исследования об истории и древностях Херсонеса Таврического» (СПб., 1848). В 1858 году Кёне неверно атрибутировал сребреник Ярослава Мудрого, приписав эту монету князю Олегу. Эта ошибка вызвала критику коллег, а упорство Кёне в отстаивании своего мнения сильно подорвало его и без того не слишком высокое научное реноме. Под конец жизни Кёне дослужился до чина тайного советника, был членом 30 зарубежных научных обществ и академий, а в 1862 году получил титул барона от правительницы (за малолетством принца) микроскопического немецкого Рёйсс-Грейцского княжества. Девиз его герба, занесенного в Общий гербовник, в переводе почему-то со старошотландского звучит как «Мы врагов не боимся!».
В процессе подготовки к коронации Александра II и вскоре после нее именно Кёне разработал новый проект российского государственного герба: три его варианта – Большой, Средний и Малый – были утверждены императором 11 апреля 1857 года. Кёне создал также родовой герб Романовых, систему гербов для членов императорской фамилии, а также флаг гербовых цветов (черно-желто-белый), употреблявшийся вплоть до коронации Александра III в 1883 году.
На посту управляющего Гербовым отделением Департамента герольдии Кёне осуществил масштабную реформу русской геральдики, стремясь унифицировать и придать системность корпусу российских родовых и территориальных гербов. При этом он руководствовался формальными правилами и традициями западноевропейской, прежде всего немецкой геральдики. Среди существенных его нововведений – разворот движущихся фигур во многих гербах в правую сторону (как это было принято в европейской геральдической традиции). Так, в правую сторону «развернулся» и московский Георгий Победоносец. Ряд фигур, которые Кёне счел неприемлемыми для геральдики, был заменен на новые, более «геральдичные»: например, место прядильного станка в гербе подмосковного города Богородска заняли шесть червленых пустых ромбов. Изменилась и структура городских гербов: если раньше городской герб делился горизонтально на две части, из которых в верхней помещался герб губернии, а внизу – собственно города (система, возникшая в екатерининскую эпоху), то теперь для губернских гербов (в составе городских) отводилась так называемая вольная часть в верхнем правом углу щита. Опираясь на распоряжение Николая I 1851 года, Кёне ввел систему украшений гербовых щитов территориальных и городских гербов – корон, венчающих щит, фигур, располагавшихся за щитом или обрамлявших его, – дубовых листьев, колосьев, орденских лент, скипетров, знамен, якорей и т. д. Все это делало российские гербы изобразительно более пышными и геральдически насыщенными.
Приступив к работе в Герольдии, Кёне сразу начал подготавливать теоретическую базу для своей деятельности. Уже к 1857 году относится первая «Записка о правилах составления герба». Затем последовал целый ряд других документов, в том числе «Правила составления и утверждения гербов…», принятые Департаментом герольдии в 1859 году и касавшиеся как родовой, так и территориальной геральдики, и «Инструкция Гербового отделения для составления гербов». Они определили порядок оформления «геральдического» делопроизводства, установили принципы и правила составления гербов, выработали соответствующие рекомендации. Среди важных положений было и такое:
Так как геральдика – наука средневековая и эмблематическая, то геральдические фигуры следует изображать в соответствующей средневековой форме и вследствие сего фигуры классической древности (то есть античности) и мифологические, а также новейших времен, например локомотивы, пароходы и новейшие орудия, не должны допускаться в гербах.
Инструкции и записки, подготовленные Кёне, носили системный характер, охватывая различные аспекты геральдической практики, а не просто затрагивая какую-то одну область или отдельные элементы герба.
В конце XIX века определенный вклад в русскую теоретическую геральдику внес и барон Павел Павлович фон Винклер (1866 – ок. 1937), известный своим каталогом российских городских и территориальных гербов. Выпускник Пажеского корпуса, он служил в прославленном лейб-гвардии Семеновском полку, потом вышел в отставку и активно занялся геральдикой, генеалогией, нумизматикой, фалеристикой и оружиеведением. Довольно скоро он приобрел известность как специалист в этих областях знания: так, в течение ряда лет он вел отдел, посвященный генеалогии и геральдике, в популярном в те годы журнале «Всемирная иллюстрация», а в энциклопедическом словаре Брокгауза – Ефрона ему принадлежат «геральдические» статьи. Правда, его публикации не всегда отличались высоким научным уровнем, а деятельная натура мешала осуществлению всех намеченных, порой масштабных планов. Так случилось и с его «Русской геральдикой». В начале XX века Винклер отошел от занятий историей, сфера его интересов сместилась в совершенно иную плоскость. В течение нескольких лет он являлся директором Петербургского зоологического сада, опубликовал ряд трудов по птицеводству и печатался в журналах сельскохозяйственной тематики. Еще до Первой мировой войны он оказался за границей, а после событий 1917 года остался там и последние годы жизни провел в США.
Задуманная им «Русская геральдика» должна была состоять из семи выпусков, но опубликовано было только три (СПб., 1892–1894). В них Винклер представил стройную систему теоретической геральдики и геральдической терминологии, проиллюстрировав каждый пункт примерами из русских дворянских гербов. Ряд терминов получил популярность именно благодаря Винклеру – например, «финифть» как русский аналог геральдической «эмали». Труд Винклера имеет большое значение как один из удачных опытов описания формальной геральдики, предназначенной для практического герботворчества.
После Кёне управляющим Гербовым отделением был историк Александр Платонович Барсуков (1839–1914), автор многотомного труда «Род Шереметевых». После его смерти третьим (и последним) управляющим Гербовым отделением стал выдающийся геральдист – ученый и практик Владислав Крескентьевич Лукомский (1882–1946). Потомок старинного дворянского рода Речи Посполитой, он родился в семье инженера путей сообщения. Его младший брат Георгий Крескентьевич (1884–1952) стал впоследствии видным художником-графиком и искусствоведом. В 1906 году Владислав Крескентьевич окончил юридический факультет Петербургского университета. Еще в гимназические годы он заинтересовался геральдикой и после окончания университета начал работать в канцелярии Департамента герольдии, где и служил вплоть до революционных событий 1917 года. Одновременно он учился в Петербургском археологическом институте, который окончил в 1909 году, защитив дипломную работу по русской геральдике. С 1913 года читал там же лекции по геральдике, а в 1921 году стал профессором кафедры геральдики и генеалогии. После ликвидации института в 1922 году Лукомский перешел в Петроградский университет, где преподавал геральдику вплоть до 1925 года. На базе богатейшего архива Департамента герольдии в 1918 году он создал и возглавил Гербовый музей (при Главном управлении архивным делом), просуществовавший до 1932 года (позднее он носил название «Кабинет вспомогательных исторических дисциплин»).
Подъем интереса к геральдике, оживление исследований, появление небольшого, но деятельного круга талантливых геральдистов и даже особого геральдического направления в изобразительном искусстве не были случайностью. Конечно, все эти явления связаны с общим развитием исторической науки, достигшей на рубеже веков внушительных высот, когда возросла дифференцированность исторического знания, складывались в качестве самостоятельных областей многие науки историко-культурного профиля, возникло множество исторических обществ, проводились масштабные мероприятия, в том числе археологические съезды (под археологией тогда подразумевалось изучение древностей в целом), выходили многочисленные, высокого профессионального уровня исторические труды и периодические издания и т. п.
На геральдику тех лет позитивно влияла и общая культурная обстановка – особая атмосфера Серебряного века. Недаром геральдическое искусство 1910-х годов развивали мастера, близкие к художественному объединению «Мир искусства», определявшему основные камертоны тогдашней художественной жизни. Среди художников, оставивших яркий след в русской геральдике 1910-х годов, – И. Я. Билибин, Г. И. Нарбут, Н. К. Рерих, В. Я. Чемберс, О. А. Шарлемань, С. В. Чехонин и др. (кстати, многие художники этого круга, такие как А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, Н. К. Рерих, Г. И. Нарбут, М. В. Добужинский и другие, имели собственные гербы).
В начале XX века геральдика стала полноправной отраслью исторического знания; ее начали преподавать в Петербургском и Московском археологических институтах, готовивших профессиональных историков-архивистов и археологов. В Московском археологическом институте преподавание геральдики началось практически с момента его основания – в 1907 году. Инициатором был один из учредителей института, замечательный историк и искусствовед Юрий Васильевич Арсеньев (1857–1919). Потомок древнего дворянского рода Арсеньевых (а по матери – князей Долгоруковых), с 1898 года и до конца жизни был хранителем Оружейной палаты. Ю. В. Арсеньев зарекомендовал себя блестящим знатоком геральдики, генеалогии, вексиллологии и других наук. Учебный курс, который он читал в институте, увидел свет в 1908 году под простым и очевидным названием «Геральдика». Правда, учебник касался в основном западноевропейской геральдики как особого символического языка культуры. Русская геральдика представлялась Арсеньеву явлением, заимствованным из Западной Европы. Курс геральдики Арсеньева стал лучшим учебным пособием в дореволюционной историографии; в наше время он не утратил своего значения, хотя в некоторых своих частях неизбежно устарел.
В те же годы начала века в России работали еще несколько видных геральдистов, среди них В. Е. Белинский, активно популяризировавший геральдику, генеалогию и близкие им науки в периодических изданиях. Но, безусловно, первое место принадлежало двум выдающимся специалистам – С. Н. Тройницкому и уже упоминавшемуся В. К. Лукомскому. Сын сенатора, Сергей Николаевич Тройницкий (1882–1948) окончил петербургское Училище правоведения, затем учился в Германии. Он был одним из самых талантливых и ярких историков искусства своего времени. В 1905 году на собственные средства организовал издательство «Сириус», где выходили книги по искусству и геральдике, в том числе те, что стали шедеврами иллюстрированных изданий своего времени. С 1908 года он был сотрудником Эрмитажа, где с 1913 года являлся хранителем Отделения драгоценностей, а позднее организовал Галерею серебра. Уже после революции в 1918 году сотрудники Эрмитажа избрали его своим директором (это был первый выбранный директор в истории этого музея). Тройницкий очень много сделал для Эрмитажа, его сохранения и развития в первые послереволюционные годы. В 1927 году он был «освобожден от исполнения обязанностей директора», но в течение нескольких лет оставался заведующим отделом прикладного искусства, пока не был окончательно «вычищен» из Эрмитажа в 1931-м. Ему инкриминировались неподходящее социальное происхождение и «незначительность» научных занятий, к числу которых относились геральдика, табакерки и веера (в частности, он был автором первых опубликованных каталогов эрмитажных коллекций вееров и табакерок). На рубеже 1920–1930-х годов Тройницкий как мог пытался бороться с большевистскими продажами эрмитажных шедевров, а зачастую их уничтожением; именно он дважды спас от переплавки уникальную серебряную раку Александра Невского. Затем Тройницкий работал антикварным экспертом, а после убийства Кирова, когда началась волна массовых выселений из Ленинграда «бывших», или так называемых социально опасных элементов, его сослали на три года в Уфу. После освобождения Сергей Николаевич поселился в Москве, в последние годы жизни работал в Музее фарфора и фаянса в Кускове и затем в Музее изящных искусств (ГМИИ им. Пушкина) заведующим отделом декоративного искусства.
С. Н. Тройницкий издавал первый в России журнал «Гербовед», который выходил в 1913–1914 годах (всего было опубликовано 23 номера). Его основателями, помимо Тройницкого, были В. К. Лукомский, а также исследователь декоративно-прикладного искусства и художник, в том числе мастер экслибриса барон Арминий Евгеньевич фон Фёлькерзам (1861–1917) (которому принадлежит, в частности, экслибрис собственной библиотеки Николая II в Зимнем дворце) и три других художника – Осип Адольфович Шарлемань (1880–1957), чей отец был автором рисунка государственного герба Российской империи 1882 года; Владимир Яковлевич Чемберс (1878–1934), после 1917 года покинувший Россию; и Георгий (Егор) Иванович Нарбут (1886–1920), оформлявший журнал. Подавляющее большинство статей «Гербоведа» было написано Тройницким и Лукомским. В журнале печатались уникальные материалы Департамента герольдии, исследовательские работы, в основном по дворянской геральдике, рецензии на геральдические издания. Тройницкий издавал отдельные книги геральдического содержания, посвященные, к примеру, целым комплексам гербов – гербам лейб-компанцев (1914) и гербам командира и офицеров легендарного брига «Меркурий» (1915); первую иллюстрировал О. А. Шарлемань, вторую – Г. И. Нарбут.
Активно работал В. К. Лукомский. В 1914 году совместно с историком и генеалогом Вадимом Львовичем Модзалевским (1882–1920) он издал «Малороссийский гербовник» с рисунками Нарбута. А в 1915 году в Петрограде была опубликована книга Лукомского, написанная совместно с другим знатоком геральдики бароном Николаем Аполлоновичем Типольтом (1864–1948) под названием «Русская геральдика. Руководство к составлению и описанию гербов», последний шедевр геральдического книгоиздания в России. Книга состояла из двух частей. Первая, «Источники русского гербоведения», была написана В. К. Лукомским, а вторая – «Основы геральдики», с изложением правил составления и описания гербов, – Н. А. Типольтом. Примечательно, что издание книги находилось в ведении особой комиссии под председательством Н. К. Рериха. В комиссию входили художники и искусствоведы: И. Я. Билибин, В. В. Матэ, С. П. Яремич и др., а иллюстрации к книге выполнили Н. А. Типольт (в той части, где не требовалось особого художественного мастерства) и Иван Яковлевич Билибин (1876–1942), сыгравший в истории геральдического художества в России очень важную роль. Так, Билибин был одним из авторов серии юбилейных марок, посвященных трехсотлетию династии Романовых; автором знаменитого двуглавого орла на печати Временного правительства, утвержденной в конце марта 1917 года. Этот орел до недавнего времени помещался на денежных знаках современной России.
Г. И. Нарбут, потомок старинного дворянского рода литовского происхождения, принадлежавшего к гербу Тромбы («трубы») (непосредственные предки художника натурализовались на Украине), был учеником Билибина. Он включал геральдические мотивы даже в книжные иллюстрации к произведениям, далеким от геральдической тематики, – например, к басням Крылова и русским народным сказкам (используя и собственный герб, – например, в иллюстрации к крыловской басне «Добрая лисица»). Для «Малороссийского гербовника» он создал оригинальный гербовый картуш в стиле украинского барокко XVII века. В 1915 году составил сборник гербов гетманов Малороссии, изданный Тройницким. А в 1917 году был принят на службу в Департамент герольдии, где, в частности, разрабатывал типовой проект дворянского герба и соответствующей грамоты. После революции Нарбут создал проект государственного герба Украинской державы гетмана П. П. Скоропадского. Несколько выдающихся художников «Мира искусства» приняли участие в разработке ряда государственных гербов после распада Российской империи. Помимо Билибина и Нарбута, это Е. Е. Лансере, создавший герб Грузинской республики, а позднее вместе с О. А. Шарлеманем – герб Грузинской ССР, и М. В. Добужинский, автор одного из вариантов герба независимой Литвы.
После Октябрьской революции единственной сферой практического существования геральдики осталась государственная геральдика, а соответствующая наука была объявлена ненужной и чуть ли не контрреволюционной. Специалистов по геральдике к 1940-м годам в Советской России осталось всего два. Но если С. Н. Тройницкий от геральдики со временем практически отошел, то В. К. Лукомский занимался в созданном на базе архива Департамента герольдии и некоторое время просуществовавшем Гербовом музее атрибуцией музейных предметов по имевшимся на них изображениям гербов (всего им было проведено более тысячи таких экспертиз) и, числясь по архивному ведомству, в 1938 году получил степень кандидата исторических наук без защиты диссертации.
В московском Историко-архивном институте (созданном в 1930 году и начавшем работу в 1931-м) началось преподавание этих дисциплин, в том числе геральдики, для чего были привлечены еще остававшиеся к тому времени дореволюционные специалисты. В начале 1930-х годов геральдику вместе со сфрагистикой и генеалогией недолго читал историк-архивист, генеалог и москвовед Николай Петрович Чулков (1870–1940), по словам Ираклия Андроникова, «великий знаток государственных и семейных архивов XVIII и XIX веков, лучший специалист по истории русского быта, волшебник по части установления служебных и родственных связей великих и не великих русских людей». Об этом человеке широкие слои образованной публики узнали из документального фильма Ираклия Андроникова «Загадка Н. Ф. И.», который некоторое время использовался в Историко-архивном институте в качестве наглядного пособия по курсу источниковедения. С 1938 года общий курс вспомогательных исторических дисциплин начал читать Николай Владимирович Устюгов (1896–1963). Конспект курса, состоявшего из пяти частей, включая геральдику, был размножен на стеклографе в 1939–1940 годах, и только война помешала его изданию типографским способом (с началом войны Устюгов ушел на фронт, в народное ополчение).
В тяжелое военное время, когда институт чуть было не прекратил свое существование, кафедра вспомогательных исторических дисциплин, образованная в 1939 году, пополнилась некоторыми учеными, эвакуированными из блокадного Ленинграда. Среди них был и В. К. Лукомский, потерявший в огне пожара многие свои уникальные книжные и архивные коллекции. Летом 1942 года Владислав Крескентьевич стал преподавателем кафедры, где и получил возможность в полной мере раскрыть свой исследовательский и педагогический потенциал: начал преподавание учебных курсов тех наук, где был непревзойденным и уникальным для того времени специалистом, – геральдики и генеалогии. Конечно, это преподавание было нацелено прежде всего на конкретные задачи работы с архивными документами. Семинар Лукомского «Методы гербовой экспертизы и значение ее в исследовательской работе историка над памятниками материальной культуры и над документом в особенности» включал 60 (!) часов занятий – цифру, абсолютно непредставимую для сегодняшнего времени. Другой его семинар назывался «Методика определения гербов и составления родословной в работе над архивными фондами личного происхождения». Для практических занятий Лукомский составил в 1944 году уникальный «Эмблематический гербовник», рисунки к которому выполнил талантливый художник А. А. Толоконников (1897–1965). Этот гербовник был построен по статусному и генеалогическому принципу, позволяя быстро и легко атрибутировать тот или иной дворянский герб (хотя он и не охватывал, да и не мог охватить всего репертуара русской дворянской геральдики). Лукомскому было заказано учебное пособие по русской геральдике, он составил развернутый библиографический указатель научной литературы, опубликованной после 1917 года, по геральдике, сфрагистике и генеалогии, занимался собственными научными изысканиями, но многих своих замыслов, к сожалению, реализовать не успел и скончался в 1946 году. Удивительно, казалось бы, что вся эта активная деятельность в области геральдики и других исторических наук велась в институте в тяжелейшие годы войны, когда было вовсе не до того. Однако ученые старой школы прекрасно понимали, что никакие внешние сложности жизни не могут служить оправданием забвения подлинной науки. В их глазах она обладала поистине бесценным и вневременным статусом!
Тем не менее он «сочинял» гербы для знамен морских и слободских полков, а в конце 1734 года создал проект рисунка для печати Академии наук (с изображением Минервы), который был утвержден в начале 1735 года. Он стал автором труда, созданного для обучения геральдике Петра II и, по оценке академика Г.-Ф. Миллера (1705–1783), представлявшего собой «полную и в то же время компактную систему, особенно полезную для разъяснения специальных терминов из латинского, немецкого и французского языков». Этот труд был опубликован в 1731 году в Петербурге на немецком языке под названием Kurtze Einleitung zur Wappen-Kunst und zur Art des Blasonirens («Краткое введение в геральдику и искусство составления гербов»).
В 1740-х годах в геральдическую деятельность включился замечательный ученый Василий Евдокимович Адодуров (1709–1780), сначала в качестве советника конторы (с 1741 года), а затем и герольдмейстера (1753–1759). Адодуров, учившийся в Славяно-греко-латинской академии, а затем в гимназии при Петербургской академии наук, был первым русским по происхождению ученым в составе Академии наук (адъюнктом по кафедре высшей математики). В 1736 г. ему поручили надзор за прибывшими из Москвы учениками академической гимназии, среди которых находился и М. В. Ломоносов. Одновременно с физикой и математикой Адодуров занимался литературной деятельностью, переводами и изучением русского языка. Ему принадлежит первая русская грамматика на родном языке, написанная в 1738–1741 годах, однако, тогда не опубликованная (ее исследованию посвящена известная книга Б. А. Успенского). В 1744 году Адодурова произвели в коллежские советники и по рекомендации графа К. Г. Разумовского назначили преподавателем русского языка к будущей императрице Екатерине II.После восшествия ее на престол Адодуров стал президентом Мануфактур-коллегии в Москве и куратором Московского университета, которым оставался до 1778 года. К концу жизни он дослужился до чина действительного тайного советника.
Адодуров руководил разработкой более двухсот новых дворянских гербов для лейб-компанцев, участников переворота 1741 года, и подготовкой соответствующих дипломов на дворянство. Он увеличил штат художников в Герольдмейстерской конторе, начал формирование специальной библиотеки по геральдике и генеалогии, собирал составленные ранее гербы, находившиеся в различных учреждениях, наладил связи с другими правительственными структурами.
В эпоху Екатерины Великой особое внимание уделялось созданию городских гербов (б?льшая часть дореволюционных гербов этого типа была разработана именно в это время). Но предпринимались попытки систематизации и дворянской геральдики. Об этом свидетельствуют дошедшие до нас гербовники, составителями которых были А. А. Греков, А. Т. Князев и Л. И. Талызин. Первый из этих гербовников был придворным, второй – инициативным и только третий носил более-менее официальный характер.
Художник Андрей Ангилеевич Греков, учитель рисования великого князя Павла Петровича, в 1769 году составил небольшой гербовник под названием «Собрание гербов всех находящихся при дворе Его Императорского Высочества» (то есть при дворе Павла Петровича), куда вошло всего 13 гербов (по-видимому, первоначально их было около 18). Гербовник носил частный характер и был связан, вероятно, с наметившимся интересом Павла к рыцарству и рыцарской культуре. Гербовник Грекова был совершенно неизвестен вплоть до середины 1930-х годов, когда его владелец представил рукопись на собрании эмигрантского Русского историко-генеалогического общества в Париже. Правда, полностью она не опубликована и в настоящее время находится в частных руках.
Другой гербовник был составлен по инициативе статского советника Анисима Титовича Князева (1722–1792); он назывался «Собрание фамильных гербов, означающих отличие благородных родов обширныя Российския Империи, частно снятое с печатей и приведенное в алфабетной порядок». Князев, служивший почти четверть века в межевых учреждениях, считался знатоком разного рода документальных материалов, в частности дворянского законодательства и родословных, много работал в архивах, в том числе по поручению Екатерины. Ведя по долгу службы переписку с представителями разных дворянских родов, он составил собрание гербов, копируя их с личных печатей дворян, которыми те скрепляли документы. В 1785 году Князев преподнес свое творение императрице, стремясь, видимо, придать ему официальный статус. Рукопись попала в библиотеку Г. А. Потемкина, откуда поступила в книжное собрание Казанского университета, где и была обнаружена только в конце XIX века. Гербовник Князева был впервые опубликован замечательным геральдистом и искусствоведом С. Н. Тройницким в 1912 году. Всего в гербовнике (оригинал которого выполнен в цвете) помещено 533 рисунка гербов лиц, принадлежавших к 379 дворянским фамилиям. В него вошло большое число неофициальных эмблем и гербов, не соответствующих позднее утвержденным гербам тех же родов. В некоторых случаях, впрочем, атрибуции Князева оказались ошибочными.
Наконец, третий гербовник «Руководство к геральдике, то есть науке о гербах, содержащее происхождение, основание и нужные правила науки сей относительно до гербов Российских с начертанием и описанием оных» был составлен в Герольдмейстерской конторе. Его составителем был бригадир Лукьян Иванович Талызин, в 1783 году назначенный «правящим» (то есть исполняющим) должность герольдмейстера. «Руководство» Талызина датируется началом 1790-х годов; поднесенный императрице экземпляр с цветными изображениями гербов хранится в Российской национальной библиотеке (дворянские гербы из него были изданы в 2021 году). В «Руководстве» рассказывается об истории геральдики в Западной Европе и России, дается изложение теоретической геральдики, включая толкования эмблем, правила составления гербов и т. д. Затем следуют описания российских гербов, в том числе государственного, городских и 16 дворянских «для примеров, служащих к изъяснению предлагаемого руководства к геральдике», в которых, кстати, приводится объяснение помещенных в гербах фигур (чего не делалось позднее в официальном гербовнике российского дворянства). Наконец, последняя часть представляет собой сам гербовник, то есть рисунки гербов государственного, титульных, 459 городских, утвержденных в 1772–1790 годах, и 446 родовых гербов дворянства. Такое количество дворянских гербов свидетельствует о весьма активном герботворчестве в XVIII веке.
Однако эти труды меркнут перед грандиозным начинанием императора Павла I, который сыграл судьбоносную роль в истории российской дворянской геральдики.
20 января 1797 года, то есть спустя всего два месяца после своего восшествия на престол и еще до коронации, состоявшейся на Пасху того же года, новый император подписал указ о составлении «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской Империи».
Гербовник должен был стать официальным собранием утвержденных императором родовых и личных гербов российского дворянства. Очередные части (тома) комплектовались по мере составления и утверждения гербов, а внутри каждой части гербы группировались по статусу владельцев. Всего в Гербовнике насчитывалось три «отделения»: первое включало гербы титулованных родов и древних родов, принадлежавших к дворянству еще до петровского указа о единонаследии 1714 года, уравнявшего вотчины и поместья; второе – гербы дворян, возведенных в это достоинство русскими императорами; третье – гербы дворян, получивших дворянство по чину или по ордену, то есть по службе. Каждый герб изображался в цвете, после чего шло его словесное описание и краткая информация о происхождении рода, которому он принадлежал (с упоминанием о происхождении дворянского достоинства носителей). Объяснение элементов и деталей герба в официальном описании отсутствовало и возможно лишь при обращении к другим источникам, в том числе архивным материалам Герольдии.
Центральным принципом формирования Гербовника стала идея службы государю. Первыми шли «природные» княжеские роды потомков Рюрика, Гедимина и других правителей, затем роды располагались «по старшинству» службы, а не в алфавитном порядке фамилий гербовладельцев, хотя в конце каждой части прилагался алфавитный указатель.
Общее наблюдение за созданием Гербовника было возложено на генерал-прокурора князя Алексея Борисовича Куракина, работой над первыми частями руководил обер-прокурор Третьего департамента Сената, получивший известность на литературном поприще, будущий министр внутренних дел при Александре I Осип Петрович Козодавлев. Его помощником стал особый чиновник – ваппенрихтер (гербовый судья) Матвей Федорович Ваганов, подготовивший первые девять частей этого масштабного труда. 27 мая 1800 года Герольдмейстерская контора обрела статус коллегии и получила официальное наименование Герольдии.
Под стать содержанию был и внешний вид томов. Гербы в первых 12 частях изображались на пергамене (позднее в качестве материала использовалась плотная, так называемая бристольская бумага), первые десять частей были переплетены в малиновый бархат с вышитым золотом государственным гербом. Указ 1861 года изменил внешнее оформление переплета (в соответствии с изменениями государственного герба): теперь малый государственный герб Российской империи (черный двуглавый орел с регалиями и титульными гербами) помещался на золотом глазете, а по углам переплета располагались металлические вставки. Над рисунками гербов работали замечательные художники-геральдисты: сами гербы «Общего гербовника» выполнены на очень высоком художественном уровне в стиле, характерном для соответствующей эпохи.
Работа над первыми частями велась весьма интенсивно. Уже в новолетие 1 января 1798 года Павел утвердил первую часть «Общего гербовника», вторую – 30 июня того же года (на следующий день после своего тезоименитства), еще две части – в 1799 году, пятую – в 1800 году. Шестую часть утвердил уже Александр I в июне 1801 года, в его царствование были утверждены еще три части: в 1803, 1807 и 1816 годах. При Николае I была утверждена только одна часть, десятая, и то только в 1836 году, после чего создание Гербовника приостановилось. Составление 11-го тома затянулось из-за серьезного кризиса Герольдии и незначительного внимания к геральдике со стороны высшей власти. Первые десять частей Гербовника были отпечатаны (в черно-белом гравированном варианте) в 1799–1840 годах.
В начальные годы правления Александра II геральдическая деятельность вновь оживилась: в 1863 году была утверждена 11-я часть, еще три части – при Александре III (1882, 1885, 1890) и пять – при Николае II (1895, 1901, 1904, 1908, 1914). Двадцатая часть была составлена в Герольдии уже при Временном правительстве с конца марта по ноябрь 1917 года и включала гербы, утвержденные вплоть до 3 февраля 1917 года. Нужно отметить, что после Павла I каждый новый император, за исключением Николая I, считал необходимым ознаменовать начало своего правления утверждением новых гербов (государственных или дворянских), что видно и на примере «Общего гербовника».
Последние десять частей Гербовника (с 11-й по 20-ю) остались неопубликованными. В период после Февральско-мартовской революции 1917 года дворянские гербы продолжали утверждаться, но уже Сенатом, а не императором (о чем в мае 1917 года Временным правительством было принято соответствующее постановление). В 1918–1919 годах последний руководитель дореволюционной Герольдии В. К. Лукомский (о котором речь впереди) собрал и переплел эти гербы в так называемую XXI часть «Общего гербовника», которая имеет название «Собрание Всероссийского дворянства гербов, утвержденных Правительствующим сенатом 1 июня – 22 ноября 1917 г.». Эта последняя часть «Общего гербовника» меньше остальных по объему и состоит из 61 герба (предшествующие части включали от 135 до 186 гербов). Разумеется, этот том также не был опубликован.
Количество гербов в «Общем гербовнике» составляет 3127. Гербовник фиксировал не только гербы, но и информацию о происхождении и службе дворянских родов. Тогдашний уровень генеалогической науки и не слишком высокий профессионализм в этой области сотрудников Герольдии привели к тому, что в Гербовник оказались внесенными недостоверные, а зачастую откровенно фантастические сведения по генеалогии дворянских фамилий, в том числе многочисленные легенды о выездах их предков из зарубежных стран и земель. Тем не менее эти данные могут служить источником по истории генеалогических представлений, бытовавших в дворянской среде, и отношения к ним со стороны официальных властей.
Впрочем, далеко не все официально утвержденные гербы включены в «Общий гербовник». Существовало немало гербов российского дворянства, оформленных дипломами, которые были собраны в отдельный гербовник под названием «Сборник Высочайше утвержденных дипломных гербов Российского дворянства, не внесенных в Общий гербовник». Гербы в нем располагались в алфавитном порядке по фамилиям владельцев. Этот сборник состоит из двадцати частей (томов) и включает гербы, охватывающие временной промежуток от 1719 до 1915 года. Работа над первыми семнадцатью частями завершилась в 1894 году. Три тома дополнений собраны в 1896, 1904 и 1917 годах. В общей сложности в сборнике помещено еще 1569 дворянских гербов.
В середине XIX века началось составление «Гербовника Царства Польского». Царство Польское (со столицей в Варшаве) было образовано после окончания антинаполеоновских войн в соответствии с решением Венского конгресса на территории бывшего Варшавского герцогства. «Царство» считалось конституционной монархией (впоследствии этот статус существенно скорректировался), находящейся в унии с Российской империей. Польским «царем» являлся российский император. В 1836 году было введено Положение о дворянстве в Царстве Польском, заметно изменившее состав и структуру этого сословия. Тогда же при Государственном совете Царства Польского была образована своя герольдия, а в 1849 году началась работа по составлению гербовника польского дворянства. Руководил ею служивший в Государственном совете Царства Польского Николай Иванович Павлищев (1802–1879), женатый на Ольге Сергеевне Пушкиной, родной сестре Александра Сергеевича.
Польская родовая геральдика кардинально отличалась от родовой геральдики других европейских стран: в ней имелось определенное количество гербов, как правило, с довольно простыми изображениями, многие из которых имели тамгообразный вид и символизировали различные предметы. Каждый герб имел собственное наименование. При этом один и тот же герб могли использовать сразу несколько родов, иногда десятков, а то и сотен, в большинстве случаев не связанных общим происхождением и имевших разные фамилии. Так, к гербу Любич относилось около сотни родов (в их число входили, например, Добужинские, к которым принадлежал художник М. В. Добужинский), а к гербу Ястржембец (Ястршембец) – около 200 (это, в частности, был герб белого генерала В. З. Май-Маевского и великого физика М. Склодовской-Кюри, а род другого великого физика П. Л. Капицы использовал иной вариант того же герба. Герб Ястржембец был утвержден в Российской империи и за родственниками художника М. А. Врубеля). Такие гербовые сообщества именовались гербовнями. Эта система имеет своим источником особенности войсковой организации, когда под одним знаменем (с эмблематическим изображением) собиралась шляхта, состоявшая из родственников, соседей или (позднее) вассалов крупного феодала. Следует учесть, что польская шляхта среди дворянских сословий других стран выделялась своей многочисленностью по отношению к общему количеству населения и составляла около 10 % населения Речи Посполитой. В польской геральдике XVI–XVIII веков существовали гербовники, не утверждавшиеся королями, но пользовавшиеся высоким авторитетом в местном дворянстве и служившие зачастую одним из доказательств шляхетского происхождения. Существовало и явление так называемой адоптации, сродни нобилитации, когда род приписывался к тому или иному гербу. Таким образом, польская геральдика не была строго «индивидуализирована» по принципу «один род – один герб», хотя в ней и существовало некоторое число «собственных гербов» (herb wlasny), немногочисленных и принадлежавших преимущественно аристократическим фамилиям.
В Царстве Польском предполагалось составить дворянский гербовник, включавший примерно 650 гербов, которые использовали три с половиной тысячи дворянских родов; издание также мыслилось многотомным. Внутренняя структура гербовника отчасти напоминала структуру «Общего гербовника». Он состоял из трех разделов: в первый заносились титулованные дворянские роды, во второй – роды, являвшиеся дворянскими до 1836 года, в третий – получившие дворянство после 1836 года. При этом гербовник (в двух последних разделах) составлялся в порядке латинского алфавита по названиям гербов. Правда, он так и не был закончен. Первые две части были высочайше утверждены в 1850 и 1851 годах и изданы под названием Herbarz Krоlestwa Polskiego в Варшаве на польском и русском языках (параллельный текст). Эти части включили 246 гербов, принадлежавших 840 родам. Издание остановилось на букве J. Третья часть, которая включала 121 герб, была подготовлена, но так и не утверждена. После подавления Польского восстания начала 1860-х эта работа прекратилась. В 1870 году все дела о польском дворянстве и его гербах были переданы в ведение российской Герольдии. В 1910 году третью часть «Гербовника Царства Польского» издали В. К. Лукомский и С. Н. Тройницкий. В этом гербовнике можно найти гербы таких известных в культуре и науке родов, как графы Виельгорские, Доливо-Добровольские, Бялобржеские, Булгарины, Шанявские, Зайончковские и др.
В 1897 году был составлен в двух частях (но не издан) «Сборник дипломных гербов Польского дворянства, невнесенных в Общий Гербовник». Он включал 197 гербов (в алфавитном порядке, но на русском языке).
В общей сложности во всех четырех гербовниках Российской империи и Царства Польского было зафиксировано 5260 гербов. Но этим все многообразие дворянских гербов, бытовавших до революции, не исчерпывается. Общее число дворянских родов империи в начале XX века приближалось к 60 тысячам; таким образом, официальной родовой геральдикой была охвачена вряд ли 1/10 часть российского дворянства. Утверждение герба было делом хлопотным, требовало усилий, в том числе финансовых; многие дворяне, даже представители древних и титулованных родов, отнюдь не стремились официально получить герб; среди российского дворянства множество родов гербов не имели, а иные пользовались гербами неутвержденными (так называемыми самобытными), чьи изображения можно встретить на различных предметах – от личных печатей и гравированных портретов до предметов мебели и надгробных плит. Работа по собиранию таких гербов началась еще в дореволюционный период и продолжилась уже в 1920–1930-х годах. Ее энтузиастами были В. К. Лукомский и барон Н. А. Типольт. В результате был составлен сборник неутвержденных гербов (около 2 тысяч), материалы и варианты которого находятся в архивных собраниях России и за рубежом. Ученик В. К. Лукомского Василий Викторович Зенкевич (1901–1942), работавший под псевдонимом Цихинский (по названию герба, к которому принадлежал его шляхетский род) и по матери происходивший из рода князей Багратион-Мухранских, в 1922 году составил «Кавказский гербовник». Сохранившаяся его часть охватывает княжеские роды преимущественно грузинского происхождения (что обусловлено особенностями признания кавказских родов в княжеском достоинстве Российской империи). Источниками для Цихинского служили материалы Департамента герольдии, оттиски печатей, изображения гербов на надгробиях и т. д. Всего гербовник включает 131 герб 95 фамилий. Сам автор этого оставшегося неизданным труда скончался в ленинградской тюрьме в сравнительно молодом возрасте, разделив судьбу многих потомков дворянских фамилий в Советской России.
Новый подъем русской геральдики пришелся на последние годы царствования Николая I и начало правления Александра II. Во многом это было связано с общим курсом на усиление государственного патриотизма. Теория «официальной народности» требовала актуализации национального прошлого.
Именно при Николае I создается великая национальная опера «Жизнь за царя» М. И. Глинки, принимается первый русский официальный гимн «Боже, Царя храни!», визуальным воплощением возрождения культурных традиций допетровской Руси становится архитектура К. А. Тона, к 1849 году закончившего строительство Большого Кремлевского дворца. Народные мотивы входят в моду при дворе: достаточно вспомнить платья придворных дам и самой императрицы Александры Федоровны в национальном стиле, принятом уже на коронации Николая I. Особенно усилились эти мотивы после «Весны народов» 1848–1849 годов, отразившейся на политике российского правительства (в 1849 году русская армия совершила Венгерский поход, оказав помощь австрийской монархии в подавлении революции в Венгрии). Идея Русского царства как ответственного за судьбу православия во всем мире привела в середине 1850-х годов к открытому конфликту с Османской империей и Крымской войне, которая закончилась для России поражением. В преддверии Великих реформ новый император Александр II усилил курс на укрепление государственных начал в идеологии и подъем морального духа своих подданных.
Эта общая тенденция в культуре способствовала повышенному вниманию к истории и памятникам старины. Достаточно вспомнить о строительстве нового здания Оружейной палаты, где были выставлены исторические сокровища русских царей, в том числе древние государственные регалии; о роскошном издании «Древностей Российского государства, изданных по Высочайшему повелению…» (В 6 т. М., 1844–1853) с рисунками художника Ф. Г. Солнцева; о первых научных реставрациях-реконструкциях (на тогдашнем уровне науки) памятников русской старины, в том числе кремлевского Теремного дворца. Вся эта деятельность не могла не затронуть и геральдику как наиболее яркое и емкое воплощение государственной идеологии и истории.
В 1855 году в Петербурге вышел в свет первый научный труд по русской геральдике – «Русская геральдика» Александра Борисовича Лакиера (1824–1870), выпускника Московского университета, магистра права, служившего в Министерстве юстиции и затем в Сенате. Лакиер занимался историческими исследованиями, в том числе геральдикой, фалеристикой и историей монаршей титулатуры. За свою книгу он удостоился престижной Демидовской премии.
Во введении А. Б. Лакиер писал, что к созданию этого труда его побудило отсутствие в немногочисленной геральдической литературе истории именно отечественных печатей и гербов. Он обратился к изучению русских средневековых печатей, на которых помещались разнообразные эмблематические изображения. В этой эмблематике он и усматривал национальные истоки русской геральдики, и, хотя это было очевидным преувеличением, Лакиер, по сути, первым в исторической науке привлек внимание к допетровской геральдике, прежде всего государственной и территориальной. В частности, он впервые проанализировал историю российского государственного герба с точки зрения его составных элементов. Отдельные разделы его труда посвящены западноевропейской геральдике и ее происхождению, российским дворянским гербам и их систематизации. В целом он создал впечатляющую картину истории отечественной сфрагистики и геральдики, заложив прочный фундамент ее научного исследования. Для геральдической науки в России этот труд является таким же основополагающим, как «История…» Н. М. Карамзина для истории России. И хотя геральдика как наука со времен Лакиера ушла далеко вперед, его книга не утратила своего значения и периодически переиздается, зачастую в роскошном и, конечно, абсолютно ненаучном виде.
Еще в период правления Николая I в связи с административными преобразованиями и возросшим объемом работы произошло изменение внутренней структуры и статуса Герольдии. В 1832 году в Герольдии были учреждены три экспедиции (геральдикой занималась 1-я) и утвержден новый штат, а в 1848 году она была преобразована в департамент Сената. Из ведения нового департамента дела по гражданской службе передавались в другое подразделение, таким образом, вся работа Герольдии сосредоточилась на делах о дворянстве и почетном гражданстве (это было новое сословие, образованное в 1832 году). 10 июня 1857 года при канцелярии Департамента герольдии было образовано специальное Гербовое отделение, которое и занималось составлением гербов. Тем самым все вопросы официального герботворчества сконцентрировались в особом государственном учреждении – подразделении департамента во главе с управляющим, которым стал барон Борис Васильевич Кёне (1817–1886).
Человек он был весьма своеобразный, но русская геральдика (и не только геральдика) обязана ему очень многим. Бернгард Карл Кёне, уроженец Берлина еврейского происхождения, сын государственного архивариуса, учился в Лейпцигском и Берлинском университетах, занимался нумизматикой и после защиты диссертации получил звание приват-доцента Берлинского университета по кафедре нумизматики и археологии. Одновременно он являлся секретарем Берлинского нумизматического общества и руководил изданием его журнала. В Россию его пригласил известный нумизмат Я. Я. Рейхель, служивший в Экспедиции заготовления государственных бумаг. По его протекции Кёне в 1845 году был определен помощником начальника Первого отделения Императорского Эрмитажа (собрание антиков и монет). В Эрмитаже Кёне прослужил несколько десятилетий, с 1850 года – во Втором отделении музея (картинной галерее), и, кстати, выяснил историю покупки Екатериной II берлинской коллекции картин коммерсанта И. Э. Гоцковского в 1764 году (эта дата считается началом истории Эрмитажа). Безуспешно пытаясь попасть в состав Петербургской академии наук, Кёне в 1846 году организовал Археологическо-нумизматическое общество (позднее Русское археологическое общество), куда привлек многих крупных ученых, наладил издание его «Записок», активно пропагандировал общество на международной арене. Правда, в 1853 году неприязненное отношение нового руководителя общества великого князя Константина Николаевича заставило Кёне расстаться со своим детищем. Из-за стремления заручиться поддержкой высокопоставленных лиц, финансовых манипуляций на нумизматическом рынке и любви к всевозможным наградам, отличиям и званиям Кёне пользовался дурной репутацией. Однако служебная и научная его активность была совершенно потрясающей. Александр II всецело доверял его знаниям в области геральдики и фалеристики. Научные работы Кёне известны на семи языках. Наиболее существенная из них – «Исследования об истории и древностях Херсонеса Таврического» (СПб., 1848). В 1858 году Кёне неверно атрибутировал сребреник Ярослава Мудрого, приписав эту монету князю Олегу. Эта ошибка вызвала критику коллег, а упорство Кёне в отстаивании своего мнения сильно подорвало его и без того не слишком высокое научное реноме. Под конец жизни Кёне дослужился до чина тайного советника, был членом 30 зарубежных научных обществ и академий, а в 1862 году получил титул барона от правительницы (за малолетством принца) микроскопического немецкого Рёйсс-Грейцского княжества. Девиз его герба, занесенного в Общий гербовник, в переводе почему-то со старошотландского звучит как «Мы врагов не боимся!».
В процессе подготовки к коронации Александра II и вскоре после нее именно Кёне разработал новый проект российского государственного герба: три его варианта – Большой, Средний и Малый – были утверждены императором 11 апреля 1857 года. Кёне создал также родовой герб Романовых, систему гербов для членов императорской фамилии, а также флаг гербовых цветов (черно-желто-белый), употреблявшийся вплоть до коронации Александра III в 1883 году.
На посту управляющего Гербовым отделением Департамента герольдии Кёне осуществил масштабную реформу русской геральдики, стремясь унифицировать и придать системность корпусу российских родовых и территориальных гербов. При этом он руководствовался формальными правилами и традициями западноевропейской, прежде всего немецкой геральдики. Среди существенных его нововведений – разворот движущихся фигур во многих гербах в правую сторону (как это было принято в европейской геральдической традиции). Так, в правую сторону «развернулся» и московский Георгий Победоносец. Ряд фигур, которые Кёне счел неприемлемыми для геральдики, был заменен на новые, более «геральдичные»: например, место прядильного станка в гербе подмосковного города Богородска заняли шесть червленых пустых ромбов. Изменилась и структура городских гербов: если раньше городской герб делился горизонтально на две части, из которых в верхней помещался герб губернии, а внизу – собственно города (система, возникшая в екатерининскую эпоху), то теперь для губернских гербов (в составе городских) отводилась так называемая вольная часть в верхнем правом углу щита. Опираясь на распоряжение Николая I 1851 года, Кёне ввел систему украшений гербовых щитов территориальных и городских гербов – корон, венчающих щит, фигур, располагавшихся за щитом или обрамлявших его, – дубовых листьев, колосьев, орденских лент, скипетров, знамен, якорей и т. д. Все это делало российские гербы изобразительно более пышными и геральдически насыщенными.
Приступив к работе в Герольдии, Кёне сразу начал подготавливать теоретическую базу для своей деятельности. Уже к 1857 году относится первая «Записка о правилах составления герба». Затем последовал целый ряд других документов, в том числе «Правила составления и утверждения гербов…», принятые Департаментом герольдии в 1859 году и касавшиеся как родовой, так и территориальной геральдики, и «Инструкция Гербового отделения для составления гербов». Они определили порядок оформления «геральдического» делопроизводства, установили принципы и правила составления гербов, выработали соответствующие рекомендации. Среди важных положений было и такое:
Так как геральдика – наука средневековая и эмблематическая, то геральдические фигуры следует изображать в соответствующей средневековой форме и вследствие сего фигуры классической древности (то есть античности) и мифологические, а также новейших времен, например локомотивы, пароходы и новейшие орудия, не должны допускаться в гербах.
Инструкции и записки, подготовленные Кёне, носили системный характер, охватывая различные аспекты геральдической практики, а не просто затрагивая какую-то одну область или отдельные элементы герба.
В конце XIX века определенный вклад в русскую теоретическую геральдику внес и барон Павел Павлович фон Винклер (1866 – ок. 1937), известный своим каталогом российских городских и территориальных гербов. Выпускник Пажеского корпуса, он служил в прославленном лейб-гвардии Семеновском полку, потом вышел в отставку и активно занялся геральдикой, генеалогией, нумизматикой, фалеристикой и оружиеведением. Довольно скоро он приобрел известность как специалист в этих областях знания: так, в течение ряда лет он вел отдел, посвященный генеалогии и геральдике, в популярном в те годы журнале «Всемирная иллюстрация», а в энциклопедическом словаре Брокгауза – Ефрона ему принадлежат «геральдические» статьи. Правда, его публикации не всегда отличались высоким научным уровнем, а деятельная натура мешала осуществлению всех намеченных, порой масштабных планов. Так случилось и с его «Русской геральдикой». В начале XX века Винклер отошел от занятий историей, сфера его интересов сместилась в совершенно иную плоскость. В течение нескольких лет он являлся директором Петербургского зоологического сада, опубликовал ряд трудов по птицеводству и печатался в журналах сельскохозяйственной тематики. Еще до Первой мировой войны он оказался за границей, а после событий 1917 года остался там и последние годы жизни провел в США.
Задуманная им «Русская геральдика» должна была состоять из семи выпусков, но опубликовано было только три (СПб., 1892–1894). В них Винклер представил стройную систему теоретической геральдики и геральдической терминологии, проиллюстрировав каждый пункт примерами из русских дворянских гербов. Ряд терминов получил популярность именно благодаря Винклеру – например, «финифть» как русский аналог геральдической «эмали». Труд Винклера имеет большое значение как один из удачных опытов описания формальной геральдики, предназначенной для практического герботворчества.
После Кёне управляющим Гербовым отделением был историк Александр Платонович Барсуков (1839–1914), автор многотомного труда «Род Шереметевых». После его смерти третьим (и последним) управляющим Гербовым отделением стал выдающийся геральдист – ученый и практик Владислав Крескентьевич Лукомский (1882–1946). Потомок старинного дворянского рода Речи Посполитой, он родился в семье инженера путей сообщения. Его младший брат Георгий Крескентьевич (1884–1952) стал впоследствии видным художником-графиком и искусствоведом. В 1906 году Владислав Крескентьевич окончил юридический факультет Петербургского университета. Еще в гимназические годы он заинтересовался геральдикой и после окончания университета начал работать в канцелярии Департамента герольдии, где и служил вплоть до революционных событий 1917 года. Одновременно он учился в Петербургском археологическом институте, который окончил в 1909 году, защитив дипломную работу по русской геральдике. С 1913 года читал там же лекции по геральдике, а в 1921 году стал профессором кафедры геральдики и генеалогии. После ликвидации института в 1922 году Лукомский перешел в Петроградский университет, где преподавал геральдику вплоть до 1925 года. На базе богатейшего архива Департамента герольдии в 1918 году он создал и возглавил Гербовый музей (при Главном управлении архивным делом), просуществовавший до 1932 года (позднее он носил название «Кабинет вспомогательных исторических дисциплин»).
Подъем интереса к геральдике, оживление исследований, появление небольшого, но деятельного круга талантливых геральдистов и даже особого геральдического направления в изобразительном искусстве не были случайностью. Конечно, все эти явления связаны с общим развитием исторической науки, достигшей на рубеже веков внушительных высот, когда возросла дифференцированность исторического знания, складывались в качестве самостоятельных областей многие науки историко-культурного профиля, возникло множество исторических обществ, проводились масштабные мероприятия, в том числе археологические съезды (под археологией тогда подразумевалось изучение древностей в целом), выходили многочисленные, высокого профессионального уровня исторические труды и периодические издания и т. п.
На геральдику тех лет позитивно влияла и общая культурная обстановка – особая атмосфера Серебряного века. Недаром геральдическое искусство 1910-х годов развивали мастера, близкие к художественному объединению «Мир искусства», определявшему основные камертоны тогдашней художественной жизни. Среди художников, оставивших яркий след в русской геральдике 1910-х годов, – И. Я. Билибин, Г. И. Нарбут, Н. К. Рерих, В. Я. Чемберс, О. А. Шарлемань, С. В. Чехонин и др. (кстати, многие художники этого круга, такие как А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, Н. К. Рерих, Г. И. Нарбут, М. В. Добужинский и другие, имели собственные гербы).
В начале XX века геральдика стала полноправной отраслью исторического знания; ее начали преподавать в Петербургском и Московском археологических институтах, готовивших профессиональных историков-архивистов и археологов. В Московском археологическом институте преподавание геральдики началось практически с момента его основания – в 1907 году. Инициатором был один из учредителей института, замечательный историк и искусствовед Юрий Васильевич Арсеньев (1857–1919). Потомок древнего дворянского рода Арсеньевых (а по матери – князей Долгоруковых), с 1898 года и до конца жизни был хранителем Оружейной палаты. Ю. В. Арсеньев зарекомендовал себя блестящим знатоком геральдики, генеалогии, вексиллологии и других наук. Учебный курс, который он читал в институте, увидел свет в 1908 году под простым и очевидным названием «Геральдика». Правда, учебник касался в основном западноевропейской геральдики как особого символического языка культуры. Русская геральдика представлялась Арсеньеву явлением, заимствованным из Западной Европы. Курс геральдики Арсеньева стал лучшим учебным пособием в дореволюционной историографии; в наше время он не утратил своего значения, хотя в некоторых своих частях неизбежно устарел.
В те же годы начала века в России работали еще несколько видных геральдистов, среди них В. Е. Белинский, активно популяризировавший геральдику, генеалогию и близкие им науки в периодических изданиях. Но, безусловно, первое место принадлежало двум выдающимся специалистам – С. Н. Тройницкому и уже упоминавшемуся В. К. Лукомскому. Сын сенатора, Сергей Николаевич Тройницкий (1882–1948) окончил петербургское Училище правоведения, затем учился в Германии. Он был одним из самых талантливых и ярких историков искусства своего времени. В 1905 году на собственные средства организовал издательство «Сириус», где выходили книги по искусству и геральдике, в том числе те, что стали шедеврами иллюстрированных изданий своего времени. С 1908 года он был сотрудником Эрмитажа, где с 1913 года являлся хранителем Отделения драгоценностей, а позднее организовал Галерею серебра. Уже после революции в 1918 году сотрудники Эрмитажа избрали его своим директором (это был первый выбранный директор в истории этого музея). Тройницкий очень много сделал для Эрмитажа, его сохранения и развития в первые послереволюционные годы. В 1927 году он был «освобожден от исполнения обязанностей директора», но в течение нескольких лет оставался заведующим отделом прикладного искусства, пока не был окончательно «вычищен» из Эрмитажа в 1931-м. Ему инкриминировались неподходящее социальное происхождение и «незначительность» научных занятий, к числу которых относились геральдика, табакерки и веера (в частности, он был автором первых опубликованных каталогов эрмитажных коллекций вееров и табакерок). На рубеже 1920–1930-х годов Тройницкий как мог пытался бороться с большевистскими продажами эрмитажных шедевров, а зачастую их уничтожением; именно он дважды спас от переплавки уникальную серебряную раку Александра Невского. Затем Тройницкий работал антикварным экспертом, а после убийства Кирова, когда началась волна массовых выселений из Ленинграда «бывших», или так называемых социально опасных элементов, его сослали на три года в Уфу. После освобождения Сергей Николаевич поселился в Москве, в последние годы жизни работал в Музее фарфора и фаянса в Кускове и затем в Музее изящных искусств (ГМИИ им. Пушкина) заведующим отделом декоративного искусства.
С. Н. Тройницкий издавал первый в России журнал «Гербовед», который выходил в 1913–1914 годах (всего было опубликовано 23 номера). Его основателями, помимо Тройницкого, были В. К. Лукомский, а также исследователь декоративно-прикладного искусства и художник, в том числе мастер экслибриса барон Арминий Евгеньевич фон Фёлькерзам (1861–1917) (которому принадлежит, в частности, экслибрис собственной библиотеки Николая II в Зимнем дворце) и три других художника – Осип Адольфович Шарлемань (1880–1957), чей отец был автором рисунка государственного герба Российской империи 1882 года; Владимир Яковлевич Чемберс (1878–1934), после 1917 года покинувший Россию; и Георгий (Егор) Иванович Нарбут (1886–1920), оформлявший журнал. Подавляющее большинство статей «Гербоведа» было написано Тройницким и Лукомским. В журнале печатались уникальные материалы Департамента герольдии, исследовательские работы, в основном по дворянской геральдике, рецензии на геральдические издания. Тройницкий издавал отдельные книги геральдического содержания, посвященные, к примеру, целым комплексам гербов – гербам лейб-компанцев (1914) и гербам командира и офицеров легендарного брига «Меркурий» (1915); первую иллюстрировал О. А. Шарлемань, вторую – Г. И. Нарбут.
Активно работал В. К. Лукомский. В 1914 году совместно с историком и генеалогом Вадимом Львовичем Модзалевским (1882–1920) он издал «Малороссийский гербовник» с рисунками Нарбута. А в 1915 году в Петрограде была опубликована книга Лукомского, написанная совместно с другим знатоком геральдики бароном Николаем Аполлоновичем Типольтом (1864–1948) под названием «Русская геральдика. Руководство к составлению и описанию гербов», последний шедевр геральдического книгоиздания в России. Книга состояла из двух частей. Первая, «Источники русского гербоведения», была написана В. К. Лукомским, а вторая – «Основы геральдики», с изложением правил составления и описания гербов, – Н. А. Типольтом. Примечательно, что издание книги находилось в ведении особой комиссии под председательством Н. К. Рериха. В комиссию входили художники и искусствоведы: И. Я. Билибин, В. В. Матэ, С. П. Яремич и др., а иллюстрации к книге выполнили Н. А. Типольт (в той части, где не требовалось особого художественного мастерства) и Иван Яковлевич Билибин (1876–1942), сыгравший в истории геральдического художества в России очень важную роль. Так, Билибин был одним из авторов серии юбилейных марок, посвященных трехсотлетию династии Романовых; автором знаменитого двуглавого орла на печати Временного правительства, утвержденной в конце марта 1917 года. Этот орел до недавнего времени помещался на денежных знаках современной России.
Г. И. Нарбут, потомок старинного дворянского рода литовского происхождения, принадлежавшего к гербу Тромбы («трубы») (непосредственные предки художника натурализовались на Украине), был учеником Билибина. Он включал геральдические мотивы даже в книжные иллюстрации к произведениям, далеким от геральдической тематики, – например, к басням Крылова и русским народным сказкам (используя и собственный герб, – например, в иллюстрации к крыловской басне «Добрая лисица»). Для «Малороссийского гербовника» он создал оригинальный гербовый картуш в стиле украинского барокко XVII века. В 1915 году составил сборник гербов гетманов Малороссии, изданный Тройницким. А в 1917 году был принят на службу в Департамент герольдии, где, в частности, разрабатывал типовой проект дворянского герба и соответствующей грамоты. После революции Нарбут создал проект государственного герба Украинской державы гетмана П. П. Скоропадского. Несколько выдающихся художников «Мира искусства» приняли участие в разработке ряда государственных гербов после распада Российской империи. Помимо Билибина и Нарбута, это Е. Е. Лансере, создавший герб Грузинской республики, а позднее вместе с О. А. Шарлеманем – герб Грузинской ССР, и М. В. Добужинский, автор одного из вариантов герба независимой Литвы.
После Октябрьской революции единственной сферой практического существования геральдики осталась государственная геральдика, а соответствующая наука была объявлена ненужной и чуть ли не контрреволюционной. Специалистов по геральдике к 1940-м годам в Советской России осталось всего два. Но если С. Н. Тройницкий от геральдики со временем практически отошел, то В. К. Лукомский занимался в созданном на базе архива Департамента герольдии и некоторое время просуществовавшем Гербовом музее атрибуцией музейных предметов по имевшимся на них изображениям гербов (всего им было проведено более тысячи таких экспертиз) и, числясь по архивному ведомству, в 1938 году получил степень кандидата исторических наук без защиты диссертации.
В московском Историко-архивном институте (созданном в 1930 году и начавшем работу в 1931-м) началось преподавание этих дисциплин, в том числе геральдики, для чего были привлечены еще остававшиеся к тому времени дореволюционные специалисты. В начале 1930-х годов геральдику вместе со сфрагистикой и генеалогией недолго читал историк-архивист, генеалог и москвовед Николай Петрович Чулков (1870–1940), по словам Ираклия Андроникова, «великий знаток государственных и семейных архивов XVIII и XIX веков, лучший специалист по истории русского быта, волшебник по части установления служебных и родственных связей великих и не великих русских людей». Об этом человеке широкие слои образованной публики узнали из документального фильма Ираклия Андроникова «Загадка Н. Ф. И.», который некоторое время использовался в Историко-архивном институте в качестве наглядного пособия по курсу источниковедения. С 1938 года общий курс вспомогательных исторических дисциплин начал читать Николай Владимирович Устюгов (1896–1963). Конспект курса, состоявшего из пяти частей, включая геральдику, был размножен на стеклографе в 1939–1940 годах, и только война помешала его изданию типографским способом (с началом войны Устюгов ушел на фронт, в народное ополчение).
В тяжелое военное время, когда институт чуть было не прекратил свое существование, кафедра вспомогательных исторических дисциплин, образованная в 1939 году, пополнилась некоторыми учеными, эвакуированными из блокадного Ленинграда. Среди них был и В. К. Лукомский, потерявший в огне пожара многие свои уникальные книжные и архивные коллекции. Летом 1942 года Владислав Крескентьевич стал преподавателем кафедры, где и получил возможность в полной мере раскрыть свой исследовательский и педагогический потенциал: начал преподавание учебных курсов тех наук, где был непревзойденным и уникальным для того времени специалистом, – геральдики и генеалогии. Конечно, это преподавание было нацелено прежде всего на конкретные задачи работы с архивными документами. Семинар Лукомского «Методы гербовой экспертизы и значение ее в исследовательской работе историка над памятниками материальной культуры и над документом в особенности» включал 60 (!) часов занятий – цифру, абсолютно непредставимую для сегодняшнего времени. Другой его семинар назывался «Методика определения гербов и составления родословной в работе над архивными фондами личного происхождения». Для практических занятий Лукомский составил в 1944 году уникальный «Эмблематический гербовник», рисунки к которому выполнил талантливый художник А. А. Толоконников (1897–1965). Этот гербовник был построен по статусному и генеалогическому принципу, позволяя быстро и легко атрибутировать тот или иной дворянский герб (хотя он и не охватывал, да и не мог охватить всего репертуара русской дворянской геральдики). Лукомскому было заказано учебное пособие по русской геральдике, он составил развернутый библиографический указатель научной литературы, опубликованной после 1917 года, по геральдике, сфрагистике и генеалогии, занимался собственными научными изысканиями, но многих своих замыслов, к сожалению, реализовать не успел и скончался в 1946 году. Удивительно, казалось бы, что вся эта активная деятельность в области геральдики и других исторических наук велась в институте в тяжелейшие годы войны, когда было вовсе не до того. Однако ученые старой школы прекрасно понимали, что никакие внешние сложности жизни не могут служить оправданием забвения подлинной науки. В их глазах она обладала поистине бесценным и вневременным статусом!
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: