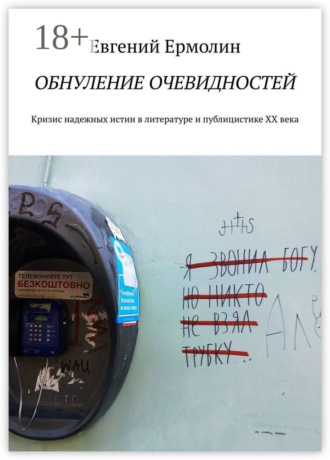
Обнуление очевидностей. Кризис надежных истин в литературе и публицистике ХХ века: Монография
Пятое. Свободная дружеская избирательность, «отрада принадлежности к единочувствующим и единомыслящим» (Кнабе). Cреда контркультуры, ее актив и массовка, – люди-1956/1965. С этим временем, с его людьми связывал Окуджава исходный импульс своего творчества; его песня коммуницировала с социальной средой особого типа: это новая, позднесоветская, «шестидесятническая» интеллигенция которая только отчасти имела признаки поколения, а отчасти обладала собственным качеством, кратко обозначенным выше. Сугубо для нее и создается это искусство. Оно давало и входной билет в культурную страту, в круг людей, персонально опознанных в пространстве клубного типа. Если это большее числом собрание, чем кружок на кухне, то его составляет «свой брат» – студент или инженер. Отсюда и в этой связи интимная исповедальность, неутаимые искренние чувства, особого рода взаимная нежность. Как рассуждал по поводу рока Кнабе, тот «никогда не был только музыкой, но прежде всего стилем жизни и общественной позицией» [50; 20], и если ваша позиция в обществе иная, то нам не о чем вместе петь.
Вспоминаю зашедших году в 1978-м на огонек в студенческое общежитие МГУ парней из циркового училища. Симпатичный в целом циркач разом рухнул в глазах местных девушек, потому что откровенно признался: ему совсем не близок Окуджава. И тут разверзлась пропасть.
Шестое. Диалектическое соотношение я и мы. Авторская песня – не безличный фольклор, у нее есть автор. Но этот автор – отчасти корифей хора, и пенье в эпоху прилива культурной волны происходит то авторским соло, то хором соучастников-единомышленников. Кнабе знаменательно утверждал, что главное наследие Окуджавы и главный его вклад в культуру века, основа немеркнущей привлекательности его творчества заключены в сохранении этоса «мы» и в особенном разрешении проблемы самоидентификации. Коммуникация сцены и зала особым образом вовлекает в себя художника, но в хоре личное начало не растворяется до конца. «Окуджава сумел найти ответ наиболее точный философски и наиболее достойный лично – не продолжать упрямо стремиться идентифицироваться с временем, выйти из идентификации, избавиться от иллюзий, с ней некогда связанных, стать собой, но при этом сохранить верность чувству «мы» как исходному принципу нравственной ответственности и культуры. <…> в нетленной реальности мифа, были и навсегда остались и «мы», и самоидентификация – с суетой дворов арбатских и интеллигентским Арбатом в целом, с теми его окнами, где ждут и не спят четыре года, с полночным московским уютом, со всеми, кто «успел сорок тысяч всяких книжек прочитать», кто «рукой на прошлое: вранье!» и «с надеждой в будущее: свет!» [50; 1055].
Николай Богомолов видел здесь опасность и находил исток травматического творческого опыта Окуджавы в пору зрелости: личность ситуативно не совпадала с общими рефлексами среды [19]. Действительно есть одна очевидная грань, которая важна для осмысления опыта человека контркультуры. Идеал естественности не обязательно предполагает какую-то духовную иерархичность, чаще всего совсем ее не предполагает. Но в личном опыте ты либо в итоге абсолютизируешь самопроизвольную естественность и практикуешь ее – либо все-таки выходишь на новые духовные рубежи, считая естественным то, что «меня возвышает».
Этос зрелого Окуджавы оказался далеко не всегда воспринят его «хором» в 1970-х – 1980-х годах; а это поиск почвы, связывающей времена традиции, особого рода неоклассика, культурный ретроспективизм, идеи личных обязательств, долга и чести, культ прекрасной дамы, все своеобразное рыцарство, которые совсем не обязательно связывать, как это делал автор биографии Окуджавы Дмитрий Быков, с рефлексом статусного аристократизма советского принца.
В новом контексте 1990-х связь певца и хора деградирует. Позднесоветская контркультурная интеллигенция в массе своей каких бы то ни было обязательств общественного масштаба брать на себя не собиралась, по крайней мере долговременных. Окуджава остался ей чужд как гений поступка (подписавший, в частности, знаменитое письмо 42-х) и как человек служения долгу, делу. Он входил в ее пантеон чаще всего как певец спонтанности, апологет тепла и нежности и враг формализма.
К тому же исходная общность социокультурной среды распадается, в антисистемном контексте постмодерна она заменяется мозаичным плюрализмом – и именно на этой почве торжествует отныне свобода как пафос контркультуры, победившей официоз, но потерявшей стимулы к единению людей, выходящему за пределы концертной площадки.
В этом брожении сил без средств и средств без сил и цели современный художник чувствует себя одиноким. Кнабе красноречиво описывал ситуацию: Булат Окуджава «оказался наглухо закрыт цивилизации, атмосфере и самому строю существования последних 10—15 лет XX столетия, до конца отказывался их принять, хотя то были годы развенчания наконец вечно ненавистного ему диктатурного строя, годы его мирового признания и непрестанных успехов. <…> Его преследует мысль о внутренней связи, с одной стороны, распада общества на хаотически безответственные, не сдерживаемые ни культурой, ни традицией или нравственностью единицы, и с другой – сплочения их в тоталитарное единство, основанное на национальной или социальной исключительности, исповедующее культ силы, вождя, подавления инакомыслящих. <…> За впечатлениями от окружающей поэта действительности встает ее общеевропейский и международный общественно-философский фон. Распад общества, культурной традиции и культурных целостностей на полностью автономные и самодостаточные единицы, освобождение их от всех традиций и ответственностей как от тиранических сил, стоящих над человеком и его принуждающих» [50; 1048—1049].
Конец ХХ века – триумфальный апогей свободного плюрализма, который на исходе жизни Булат Окуджава осознал как проблемную повестку дня. В своем позднем творчестве он актуален неприятием торжествующих релятивизма и цинизма, угадав раньше многих, какую опасность обещает этот гремучий сплав новому веку.
В послесловии мы вернемся к опыту Окуджавы, чтобы поразмыслить об его актуальности, востребованности сегодня.
Дикарь на Севере. «Необыкновенные сны» Юрия Казакова
Писателям нельзя верить на слово, когда они задним числом пытаются мотивировать обращение к тому или иному сюжету или сочиняют себе биографию. Правильно ли, к примеру, считать, что Казаков в 1956 году впервые отправился в командировку на Север, воспользовавшись случайной удачей, – «по стопам» Михаила Пришвина, из познавательного только интереса («погляжу, что осталось, что изменилось <…> ровно через пятьдесят лет»)? Пришвин как проводник выглядел, конечно, чрезвычайно респектабельно, особенно если не принимать в расчет его полузабытого юношеского увлечения сектантской экзотикой. Но не точнее ли полагать, что и симпатии к фигуре Пришвина питались не только литературными достоинствами его сочинений, а еще и особым местом этого писателя в тогдашней культуре.
Он как будто выпадал из официального контекста. Существовал наособицу, сам по себе, отыскав формулу достойной жизни в неприличных общественных обстоятельствах. В 50-е годы советскому человеку (каким, без сомнения, был в основном Казаков) перестало хватать того, что доставляла ему жизнь. Захотелось чего-то иного. Чего? Неясно. Внутренняя неудовлетворенность нечасто получала внятное выражение. Но в подтексте ее было неприятие казарменного официоза, уродливого вида и затхлого воздуха парадной советской действительности. Сталинская аскетика и гигантомания сменились неудержимой тягой столичной олигархии к убогому обывательскому комфорту, к стабильности и покою. Воскресала и шла в рост духовная буржуазность, которая вызывала у ищущей молодежи реакцию романтического неприятия. Повсеместная рутина отталкивала. Регулярные отказы в публикации воспринимаются Казаковым как выражение этой исторической инерции, сугубая перестраховка литчиновников, озабоченных только собственными удобствами.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

