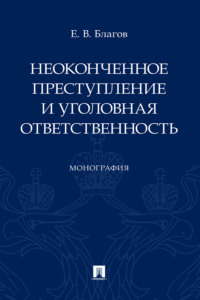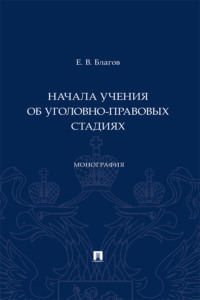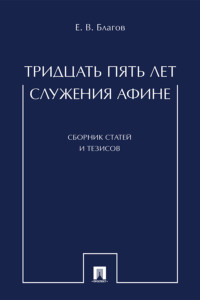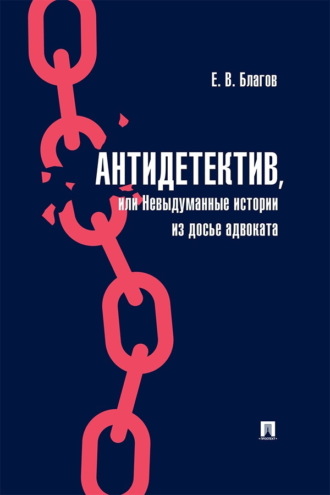
Антидетектив, или Невыдуманные истории из досье адвоката
Вот до чего я договорился. Наверное, довлеет груз прожитых лет, дум и поступков. Между тем сказанное немаловажно для понимания истинной ситуации в современном правосудии.
Писать адвокатские заметки труднее, чем детективы. Ведь для последних важна интрига, а для этого от читателя обычно скрывается то, зная что он может догадаться, кто совершил преступление, и потерять интерес к сюжету. Разумеется, в таком случае необходимы и завлекательный сценарий совершения и раскрытия преступления, и мастерство рассказчика, и многое другое. При этом едва ли не вся детективная литература в своей основе заточена на убийства, коих, наверное, в книгах больше, чем в жизни, и убийства притом более изощренные. Что поделаешь, если такова специфика жанра?
Мало того, детектив обычно заканчивается своеобразным happy ending в виде раскрытия преступления и изобличения преступника. Как в детективе без того, чтобы:
«…где-то близко вдруг шаги раздались,Вошел Анискин, детектив “Мистер Икс”.Порок наказан, торжествует добро,Волк крепко связан…» И это итог?За детективом занавес, конечно, закрывается, но сразу открывается для антидетектива. Сцена предоставляется новому действующему лицу – адвокату.
Для сюжета адвокатских историй раскрытие преступлений не может быть характерно. Это не является задачей защиты, а адвокатское расследование по российскому законодательству не производится. Более того, защищать адвокату приходится не столько убийц, сколько, если так можно сказать, обыденных преступников.
Адвокат, разумеется, подчас скрывает и даже должен кое-что скрывать как от следствия, так и от суда. Это вынужденная мера, которая осуществляется в тактических целях, чтобы исключить возможность закрыть прорехи предварительного или судебного следствия и не оказать помощь прокурору в доказывании вины клиента. Однако такое допустимо не беспредельно, а лишь до окончания судебных прений. Потом, как правило, уже ничего не сделать в его пользу.
Чем же завлечь читателя, рассказывая адвокатские истории? Кажется, ничем, если он не понимает, что и следователь, и прокурор, и судья в своих решениях излагают вовсе не истину в последней инстанции, но только собственные версии случившегося. А если что-то является версией, то не исключена и другая версия, и, как следствие, допустима критика версий следователя, прокурора и суда. Причем, если возможна еще хотя бы одна версия случившегося, нельзя считать доказанной версию, даже установленную приговором (в том числе вступившим в законную силу). Вот где должна быть интрига адвокатского повествования!
Адвокатский сюжет по природе антидетективен, ибо защитник – критик детектива. Обыкновенно детектив заканчивается раскрытием преступления и установлением преступника. Адвокат же обычно выходит на сцену, когда возникает вопрос – а действительно ли преступление раскрыто и установлен именно преступник? Преступление ли то, что названо данным словом? И даже если детектив прав, разве это все?
Раскрытие преступления и установление преступника – не самоцель для правосудия. Возникает вопрос о наказании. Достаточно вспомнить повествующее о преступлении и наказании известное произведение Ф. М. Достоевского. И роль адвоката при назначении наказания не менее важна.
Наказание должно быть справедливым (статьи 6 и 60 УК РФ). При его назначении обвинитель представляет свое видение позиции государства, а защитник оценивает ее со стороны подсудимого. При этом отношение к справедливости в зависимости от позиции человека может разниться. Адвокат в соответствующем случае должен довести до суда несправедливость наказания, предлагаемого прокурором, и доказать справедливость своего видения справедливого наказания для подсудимого.
Завершая вступление в повествование, нужно отметить, что защитнику надлежит быть более грамотным (и не только юридически), чем следователь, прокурор и суд. И это не парадокс, а объективная потребность. Адвокат с ними во имя клиента, его прав и свобод не может не вести юридическую войну. Она же, как и любая другая война, способна быть выиграна, как правило, лишь той из воюющих сторон, которая превосходит другую в знаниях, умениях, мастерстве и т. д., и для клиента лучше, если данными качествами будет обладать его защитник, а не обвинитель.
А был ли мальчик?
Начну свои истории со времени, когда уже прекратил статус адвоката. Однако недавно пришлось немного тряхнуть стариной.
Несмотря ни на что, адвокатский период жизни от себя не отпускает. Время от времени ко мне обращаются за юридической поддержкой. Правда, страждущих я обычно направляю к действующим адвокатам, которых сам знаю и на которых могу надеяться, что они добросовестно возьмутся за дело. Вместе с тем нет правил без исключения…
Около года назад мне позвонил один хороший знакомый, которого я знаю с конца девяностых годов прошлого века. О том, с чем было связано наше знакомство, я, может быть, как-нибудь расскажу. Трудность связана с тем, что память не слишком надежна, а многие мои адвокатские материалы (в том числе по делу, о котором я намекнул) погибли при прорыве трубы горячего отопления над моим рабочим кабинетом (пришли в негодность и архивы, и компьютер).
В то же время я отвлекся. Итак, ко мне обратился с просьбой о помощи Семен Чистов. В отличие от старого случая содействие было нужно лично ему. Я пригласил его к себе домой. Он приехал.
Поскольку мы не виделись довольно давно, ибо живем хотя и в одной области, но на значительном отдалении друг от друга, в начале не обошлось без чаепития, тем более что Семен был любителем попить чайку, и воспоминаний о прошлом, а также разговора о том, чем занимается каждый в последнее время, как живут наши дети, кстати, юристы. И лишь потом мы перешли к цели нашей встречи. И вот что он мне поведал.
Семена привлекли к уголовной ответственности за то, что он совместно с Ворониным избил Саева и причинил вред его здоровью средней тяжести. По версии следствия, это было сделано группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, использованных в качестве оружия, из личных неприязненных отношений (да простит меня читатель, не сведущий в юридических материях, но таков язык уголовно-процессуальных документов, а из песни слов не выкинешь).
Между тем, по словам Семена, никакого сговора против Саева у них не было. Более того, хотя они Саева в день, когда был причинен вред его здоровью, видели, но только проехавшим недалеко от них на квадроцикле. Обстоятельства встречи рассказаны так.
В лесу была обнаружена шкура убитого лося. Руководитель охотничьего хозяйства сказал, что с этим нужно разобраться. Семен вместе с Ворониным, его супругой и ребенком отправились на место разделки животного на своих машинах. Поскольку они ничего не нашли, связались с руководителем. Тот отправил на помощь Саева, как раз и обнаружившего шкуру. Тот почему-то проехал мимо. Семен и Воронин потом искали Саева по следам, но не нашли.
На третий день Семену позвонили из полиции и сообщили, что от Саева поступило заявление об избиении его Чистовым и Ворониным. Особенно возмущало Семена избиение ими Саева до такой степени, что у того была сломана правая рука, но он, по его словам, все-таки сумел вскочить на квадроцикл и скрыться от избивавших, хотя там, где все якобы происходило, дороги в обычном понимании вовсе нет, а есть направление движения по лесу с ямами, кочками и другими препятствиями, по которым на квадроцикле, управляя и двумя руками, передвигаться довольно сложно, в чем Семен сам убедился во время поездки на машине.
Конечно, разбираться с перипетиями уголовного дела по словам неспециалиста затруднительно. Мало того, хотя я уже не был адвокатом, посчитал для себя возможным исходить из достоверности того, что сообщил о ситуации в лесу Семен. И пара соображений у меня появилась сразу.
У Семена был адвокат. Поэтому я посоветовал им заявить ходатайство об установлении механизма причинения вреда здоровью потерпевшего (от избиения ли был причинен вред здоровью или, например, при падении с того же квадроцикла) и о проведении следственного эксперимента для выяснения вопроса, мог ли Саев при указанных им обстоятельствах управлять квадроциклом.
Прошло несколько недель. Семен снова позвонил мне. Оказалось, что суд состоялся и признал его виновным в совершении преступления. Он снова нуждался в помощи. Я сказал, что мне необходим приговор.
Приговор я получил. Времени на апелляционное обжалование оставалось к тому моменту уже мало (кажется, дня два). Поэтому, изучив на скорую руку приговор, я выделил в нем две основные погрешности, по идее, неспособные не повлиять на отношение апелляционной инстанции к принятому судом первой инстанции решению, и предложил их изложить в жалобе. Одна из натяжек суда относилась к проведенному следственному эксперименту, а другая – к показаниям потерпевшего. Предложенный текст жалобы, подготовленной мной от лица Семена, воспроизвожу почти дословно (естественно, за исключением идентифицирующих данных):
«Суд включил в число доказательств моей вины протокол следственного эксперимента с участием потерпевшего Саева. При этом в приговоре указано, что проведение следственного эксперимента без воспроизведения обстановки не свидетельствует о том, что его протокол не имеет доказательственного значения, и не подтверждает показаний Саева в части того, что он может управлять квадроциклом с использованием одной руки.
Все как раз наоборот. Следственный эксперимент вовсе не подтвердил то, что Саев мог управлять квадроциклом лишь левой рукой в условиях лесного бездорожья и только что причиненных ему травм, в том числе перелома правой руки и черепно-мозговой.
Во-первых, между установленным судом событием и следственным экспериментом прошло около 8 месяцев, и Саев после причиненных ему травм был в болезненном состоянии. Во-вторых, эксперимент проводился совсем в других условиях, нежели те, в которых якобы происходили события, описанные в приговоре.
Причем в приговоре отражены показания Саева о том, что он “рулил то одной рукой, то двумя руками”. Судя по установленному судом времени окончания преступления (17:00), Саев добирался до места оказания помощи около 30 минут, ибо, по показаниям свидетеля Рыгина, он появился в здании пожарной части, в котором тот находился, около 17:30. При этом у Саева “лицо было в крови, правая рука висела, он стонал от боли”. В таком случае он явно не мог ехать на квадроцикле в течение получаса по бездорожью, а тем более управлять квадроциклом и правой рукой.
И еще один настораживающий момент. В приговоре воспроизведены слова Саева о том, что, где находился Жилов (свидетель, наблюдавший происшествие), “он знал, потому, когда выехал на грунтовую дорогу”, которая ведет к селу, “он все-таки набрался сил, позвонил… и сказал: “…Ты где? Меня тут убивали. Ты где?” Он говорит: “Я здесь, я еду”. И он ему уже попался навстречу на автомобиле”. Саев “не понимал, откуда” Жилов “едет, что произошло”.
Возникает несколько серьезных недоумений. С одной стороны, если согласно приговору Жилов был свидетелем произошедшего, то он все сам видел и ему об этом сообщать не было необходимости. С другой стороны, куда Жилов пропал после встречи с Саевым, ибо, по показаниям Рыгина, тот появился в здании пожарной части один. С третьей стороны, если Саев был в том состоянии, которое описал Рыгин, почему встретившийся с потерпевшим Жилов, приехавший на машине, не оказал ему помощь или хотя бы не помог добраться до места, где ее могут оказать. С четвертой стороны, с чего вдруг после встречи с Жиловым Саев стал не понимать, не только откуда едет, но и “что произошло”. Возникает серьезное подозрение, что именно после встречи с Жиловым произошло нечто, повлиявшее на состояние Саева и зафиксированное Рыгиным, а до этого Саев спокойно ехал на квадроцикле. Это означает, что я совершенно не причастен к травмам, причиненным Саеву».
То, что изложенное в жалобе не насторожило, хотя с точки зрения здравого смысла должно бы насторожить апелляционную инстанцию, совсем не удивительно. Суды очень часто почти безоговорочно поддерживают версии следователя или прокурора, что указывает на пресловутый обвинительный уклон, бытующий в судах. Он, как в капле воды, получил преломление в деле Семена Чистова.
В приговоре отражено, что преступление совершено при следующих обстоятельствах:
«В период времени с 07.10.2021 по 11.10.2021 Воронин и Чистов, находясь в неустановленном месте (от таких неопределенных данных практически невозможно защищаться), вступили между собой в предварительный сговор на нападение и причинение Саеву не менее чем средней тяжести вреда здоровью из личных неприязненных к нему отношений.
С этой целью в период времени с 07.10.2021 по 11.10.2021 (к слову, так имело смысл указывать, лишь если предшествующий и данный периоды характеризовало разное время) Воронин и Чистов, действуя совместно и согласованно, выбрали безлюдное место, где намеревались совершить задуманное ими преступление (вообще-то, выбирать можно только при наличии вариантов, а в данном случае все предопределялось местом обнаружения шкуры лося, которое они, по материалам дела, точно не знали).
Далее 11.10.2021 в период времени с 11 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. Воронин и Чистов, продолжая реализовать совместный преступный умысел на нападение и причинение Саеву не менее чем средней тяжести вреда здоровью, прибыли на выбранный участок местности, где приискали предметы, которые намеревались использовать в качестве оружия, а именно: две деревянные палки, а также, действуя совместно и под надуманным предлогом, пригласили на данное место Саева.
Затем 11.10.2021 в период времени с 11 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. Саев, введенный в заблуждение Ворониным и Чистовым относительно происходящих событий и их реальных намерений, прибыл на указанный участок местности.
После этого 11.10.2021 в период времени с 11 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. (понятно, что все три события одновременно происходить не могли) Воронин и Чистов, продолжая реализовать совместный преступный умысел на нападение и причинение Саеву не менее чем средней тяжести вреда здоровью, действуя совместно, одномоментно (в течение 6 часов?) и согласованно, поддерживая друг друга, напали на Саева и умышленно, из личных неприязненных к нему отношений, совместно нанесли (действуя совместно, совместно нанесли – что-то новое в стилистике русского языка) не менее одиннадцати ударов руками, ногами, обутыми в твердую обувь, а также двумя деревянными палками, используемыми в качестве оружия, в область головы, туловища и конечностей потерпевшего Саева.
В результате совместных преступных умышленных действий Воронина и Чистова потерпевшему Саеву была причинена физическая боль, а также телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести, легкий вред и не повлекшие расстройства здоровья (вреда здоровью) или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности».
Семен вину в изложенном преступлении никогда не признавал, но в приговоре сказано, что она доказана исследованными в суде доказательствами, а именно: показаниями потерпевшего, свидетелей, а также письменными материалами дела. При этом, судя по приговору, все далеко не так радужно.
Из приговора нетрудно заметить, что обвинение Чистова во многом основано на показаниях потерпевшего, а также свидетеля Жилова, которые якобы присутствовали на месте происшествия. Суд данным ими показаниям в судебном заседании и в ходе предварительного следствия доверяет, поскольку они, по мнению суда, объективны, согласуются между собой, подтверждаются письменными материалами дела, соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела.
Последнее интересно. Оказывается, не факты должны устанавливаться на основе, в частности, показаний, а показания должны соответствовать каким-то образом установленным фактам.
Более того, в приговоре отмечено, что суд, доверяя показаниям указанных лиц как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, учитывает, что Жилов и Рыгин в судебном заседании дали более подробные показания, они были последовательные и логичные как на предварительном следствии, так и в суде. Насколько надежными доказательствами являются показания потерпевшего Саева, уже упоминалось. Однако приведено было далеко не все.
По безупречным, с точки зрения суда, показаниям потерпевшего, данным на предварительном следствии и оглашенным в суде:
– в свободном изложении Саев сообщил, что около 15 часов проследовал к Воронину и обнаружил его не более чем через час;
– в ответ на вопросы следователя Саев показал, что событие, о котором он желает сообщить, произошло около 15 часов;
– в свободном изложении Саев сообщил, что выкрикнул, что он здесь не один и сейчас приедет Уров;
– в ответ на вопросы следователя Саев показал, что крикнул, что он здесь не один и здесь рядом находятся Уров и Жилов.
Ясно, что в том и другом случае ситуация описывается существенно по-разному, но это никого не интересует и не интерпретируется в приговоре, и, более того, суд, по существу, соглашается и с тем и с другим. При этом первое влияет на время совершения вмененного преступления, а последнее – на то, находился ли Жилов рядом с местом происшествия (с Уровым проблемы нет, ибо из обстоятельств дела ясно, что его на месте происшествия точно не было).
И на предварительном следствии, и в суде Саев утверждал, что ему угрожали убийством и хотели убить. Таким утверждениям ни следствие, ни суд не поверили. Получается, что сложилась ситуация, похожая на отраженную в комедии «Джентльмены удачи». Действительно, чем особо отличаются слова героя киноленты «здесь помню, здесь не помню» с указанием на определенные части головы от судебной версии «здесь верю, здесь не верю»?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
См.: Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 2016. С. 610, 816.
2
См.: Ожегов С. И. Указ. соч. С. 1206.
3
См.: Там же. С. 1090.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: