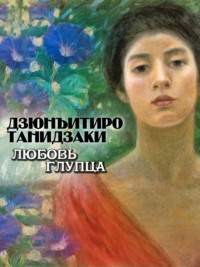Похвала тени
Она прижалась щекой к моей щеке и заплакала еще горше. Без сомнения, это были слезы скорби, и все же я чувствовал, что они приносят ей облегчение. Настроение женщины невольно передалось и мне.
– Хорошо. С вами я готов плакать сколько угодно. Мне и самому давно уже хочется плакать, только я не давал себе воли.
Мой собственный голос тоже прозвучал как-то необычно, напевно. Слезы обожгли мне глаза и покатились по щекам.
– О, как горько ты плачешь! От твоих слез на душе у меня становится еще печальней. Какая безысходная печаль! Но я люблю печалиться. Дай же мне поплакать всласть!
С этими словами женщина снова прижалась щекой к моей щеке. Она плакала уже давно, но слезы не смывали белил с ее лица, и щеки ее блестели ярко, как лунный диск.
– Видите, я плачу вместе с вами, как вы велели. Позвольте мне за это называть вас сестрицей. Можно, я буду вас так называть?
– Зачем? Зачем ты говоришь такое? – удивилась женщина и пристально посмотрела на меня узкими, как колоски мисканта, глазами.
– Я не могу избавиться от чувства, что вы – моя старшая сестра. Я знаю наверное, что так оно и есть. Ведь это правда? А если и нет, мне все равно. Согласитесь стать моей старшей сестрой.
– У тебя не может быть старшей сестры. Ты же знаешь, у тебя есть только младший брат и младшая сестренка. Оттого, что ты называешь меня тетенькой или старшей сестрой, мне становится еще горше.
– Как же тогда мне вас называть?
– Неужели ты меня совсем забыл? Неужели не помнишь, что я твоя мама?
Женщина вплотную приблизила ко мне свое лицо. Я так и ахнул: это действительно была моя мама. Она выглядела слишком молодой и красивой, и тем не менее это была она. Почему-то мне не пришло в голову усомниться в этом. Я еще ребенок, подумал я. Вполне естественно, что моя мама так молода и красива.
– A-а, так это ты, мама? Как же долго я тебя искал!
– Ну, наконец-то ты узнал меня, Дзюнъити. Ты в самом деле вспомнил меня? – проговорила мама дрожащим от волнения голосом и крепко меня обняла. Я изо всех сил прижался к ней, ощущая тепло и сладкий млечный запах ее груди…
Лунное сияние и шепот волн по-прежнему проникали мне в самую душу. В воздухе плыли звуки старинной мелодии. А по щекам у нас обоих неудержимо катились слезы.
И тут я внезапно проснулся. Подушка моя была мокрой от слез, – видно, я плакал во сне. В этом году мне исполнится тридцать три года. А позапрошлым летом мама покинула этот мир… Стоило мне вспомнить об этом, и на подушку снова закапали слезы.
«Тэмпуры хочу так, тэмпуры хочу так…»
В ушах у меня все еще стояли звуки сямисэна – далекие, неясные, словно весточка из иных пределов.
1919
Лианы Ёсино
1. Небесный государь
Прошло уже больше двадцати лет с тех пор, как то ли в начале, то ли в середине 10-х годов я бродил в горах Ёсино, в провинции Ямато[50]. В те времена там не было даже сносных дорог, не то что теперь, так что, начиная этот рассказ, нужно прежде всего пояснить, с чего мне вздумалось забраться в такую глушь, или, выражаясь по-современному, в эти «Альпы Ямато».
Возможно, кое-кто из моих читателей знает, что в тех краях, в окрестностях речки Тоцу, в селениях Китаяма и Каваками, до наших дней живут легенды о последнем отпрыске Южной династии[51] – «Южном властелине», или, иначе, «Небесном государе». То, что этот Небесный государь – принц Китаяма, праправнук императора Камэямы[52], – реальное историческое лицо, признают даже специалисты-историки, так что это безусловно не пустая легенда. Если предельно кратко изложить, что говорится об этом хотя бы в школьных учебниках, получится, что примирение и слияние двух династий произошло при сёгуне Ёсимицу[53], в 9-м году Гэнтю[54] (согласно хронологии Южной династии), или в 3-м году Мэйтоку (если считать по хронологии Северной), и на этом пришел конец так называемому Южному царству, возникшему при императоре Го-Дайго в 1-м году Энгэн[55] и существовавшему на протяжении пятидесяти с лишним лет. Однако вскоре после примирения, а именно в 23-й день 9-й луны 3-го года Какицу, некий Масахидэ Дзиро Кусуноки[56], храня верность последнему отпрыску Южной династии, принцу Мандзюдзи, внезапно напал на резиденцию императора Цутимикадо[57], похитил все три священные регалии[58] и заперся на горе Хиэй[59]. Против мятежников был выслан отряд карателей, принц покончил с собой, из трех похищенных регалий зерцало и меч удалось вернуть, священная яшма, однако, осталась в руках южан. И вот два клана, Кусуноки и Оти, объявив себя вассалами Южной династии, стали по-прежнему служить двум сыновьям погибшего принца и, собрав верных воинов, бежали с ними из провинции Исэ в Кии, из Кии – в Ямато, в самую глушь гор Ёсино, недоступную северянам. Там провозгласили они старшего принца Небесным государем, а младшего – Великим сёгуном, изменили девиз годов на Тэнсэй, Небесный Покой, и в течение шестидесяти лет прятали священную яшму в ущелье, куда враги никак не могли добраться. Но их предали – изменниками оказались потомки дома Акамацу, – оба принца погибли, и таким образом все отпрыски Южной династии в конце концов были истреблены. Случилось это в 12-ю луну 1-го года Тёроку; если прибавить к предыдущим пятидесяти семи годам еще шестьдесят пять, прошедших до гибели этих принцев, выходит, что, как бы то ни было, потомки Южной династии, непокорные столичным правителям, обитали в Ёсино в общей сложности целых сто двадцать два года.
Неудивительно, что жители Ёсино, безраздельно преданные Южной династии, от праотцов своих воспринявшие традицию нерушимой верности Югу, связывают конец династии с гибелью последнего Небесного государя. «Нет, вовсе не пятьдесят с чем-то… Южное царство длилось больше ста лет!» – категорически утверждают они.
Подростком я тоже зачитывался «Повестью о Великом мире»[60], всегда интересовался подробностями неофициальной истории Южного двора и давно уже подумывал написать исторический роман, где центральной фигурой был бы этот Небесный государь. В «Сборнике устных преданий селения Каваками» сказано, что, опасаясь преследования северян, последние вассалы Южной династии покинули долину Сионоха у подножья вершины Одайгахара и перебрались еще дальше в глубину гор, в ущелье Санноко, куда не ступала человеческая нога, к почти недоступному разлому Осуги, на самой границе с провинцией Исэ. Там воздвигли они дворец для своего повелителя, а священную яшму схоронили в пещере.
Далее хроники домов Акамацу, Коцуки[61] и некоторые другие источники гласят, что некий Хикотаро Мадзима с тридцатью воинами – остатками дружин Акамацу – нарочно сдался южанам, и во 2-й день 12-й луны 1-го года Тёроку[62], воспользовавшись тем, что из-за глубоких снегов дороги стали непроходимыми, внезапно учинил мятеж. Часть предателей напала на дворец Небесного государя, другая часть – на обитель младшего принца. Небесный государь самолично защищался мечом, но в конце концов пал от руки изменников. Они бежали, захватив с собой его отрезанную голову и священную яшму, но помешал сильный снегопад, и сумерки застали предателей на перевале Обагаминэ. Пришлось зарыть голову в снег и провести ночь в горах. А наутро их настигла погоня – то были жители всех восемнадцати селений Ёсино. Завязалась ожесточенная схватка, как вдруг в том месте, где зарыли голову, из-под снега брызнула струя крови. По этому знамению голову мгновенно нашли – врагам она не досталась…
Вышеприведенный рассказ не вызывает сомнений, с небольшими вариантами его приводят все письменные источники: хроники «Путь императора к Южным холмам», «Тучи цветущей сакуры», «Хроника Юга», «Хроника реки Тоцу», в особенности же семейные хроники Акамацу и Коцуки, написанные непосредственными участниками тех сражений или их прямыми потомками. Согласно одной из этих хроник, Небесному государю было тогда восемнадцать лет… К тому же известно, что дом Акамацу, пришедший в упадок после смуты годов Какицу[63], снова был восстановлен – то была награда за истребление двух последних принцев Южной династии и за возвращение в столицу священной яшмы.
* * *Вообще из-за плохих дорог связь всей этой округи с остальным миром очень затруднена. Поэтому там до сих пор сохранились старинные предания и нередко встречаются семьи с многовековой родословной, например семейство Хори в деревне Ано, в усадьбе которого на какое-то время останавливался император Го-Дайго. Сохранилась в неприкосновенности не только часть того дома, но, говорят, потомки Хори и по сей день живут там… Или семейство Хатиро Такэхары, того самого, о котором упоминается в «Повести о Великом мире», в главе, повествующей о бегстве принца Моринаги из Кумано[64]. Принц какое-то время жил у них в доме, у дочери Такэхары даже родился от него сын – потомки этой семьи тоже все еще здравствуют…
Есть места, еще более овеянные легендами,– например, селение Гокицугу близ горы Одайгахара; местные крестьяне считают жителей этого села потомками демонов и ни в коем случае не вступают с ними в брак, а те, в свою очередь, и сами не желают заключать браки с кем-нибудь, кроме односельчан, и считают себя потомками демонов, служивших проводниками святому угоднику Эн-но Гёдзя[65]…
Таков характер всего этого края, там много старинных семейств, их называют «родовитыми» – все это потомки местных старейшин, некогда служивших Южной династии. В окрестностях деревни Касиваги, в долине Конотани, где стоял когда-то дворец младшего принца-сёгуна, и поныне каждый год пятого февраля справляют праздник Владыки Южного двора, в храме Конгодзи происходит торжественное богослужение. В этот день десяткам «родовитых» мужчин разрешается надевать старинную одежду с гербами императорского дома – хризантемой о шестнадцати лепестках, – и занимать почетные места выше вице-губернатора, начальника уезда и прочих чиновников…
* * *Все эти разнообразные материалы, с которыми мне довелось познакомиться, не могли не подхлестнуть мое давнишнее желание написать исторический роман. Южная династия, цветение сакуры в Ёсино, таинственные долины в горной глуши, юный восемнадцатилетний Небесный государь, верный вассал Кусуноки, священная яшма, спрятанная в глубине пещеры, фонтан крови, брызнувший из-под снега из отрубленной головы… Достаточно одного этого перечисления, чтобы понять – лучшего материала не найти! И место действия превосходно: горные реки и скалы, дворцы и скромные хижины, весеннее цветение сакуры и багрянец осенних кленов – все это можно использовать, изобразив на страницах книги. При этом речь идет не об измышлениях, лишенных всякого основания; в моем распоряжении не только строго научные данные – разумеется, в основе будут они,– но также семейные хроники и другие рукописные материалы. Писателю достаточно всего лишь умело расположить факты, и может получиться прелюбопытное произведение. А если добавить к этому еще чуточку вымысла, вставить там, где это уместно, различные предания и легенды, описать своеобразную природу Ёсино, рассказать о потомках демонов, о пустынниках с вершины Оминэ, об идущих в Кумано богомольцах, поместить рядом с юным государем красавицу героиню – скажем, какую-нибудь правнучку принца Моринаги,– получится еще интереснее! Просто удивительно, что литераторы, пишущие исторические романы, до сих пор не воспользовались таким материалом… Правда, я слышал, будто у Бакина[66] есть незаконченный роман «История рыцаря», я его не читал, но мне говорили, что главная героиня, дочь Кусуноки, девица Кома – вымышленное лицо и, следовательно, роман не имеет отношения к событиям, связанным с Небесным государем. Слыхал я также, что в эпоху Токугава было одно или два произведения о государе в Ёсино, но совершенно неясно, в какой степени они основаны на подлинных фактах. Одним словом, ни в прозе, ни в пьесах дзёрури, ни в театре Кабуки[67], короче – среди произведений, популярных в широкой публике, – мне никогда не встречался этот сюжет. Вот почему я решил обязательно использовать этот материал, пока никто еще до него не добрался.
К счастью, неожиданные обстоятельства позволили мне ближе познакомиться с природой и обычаями этого края. Родные одного из моих товарищей по колледжу, молодого человека по фамилии Цумура, жили в деревне Кудзу, в Ёсино, хотя сам Цумура родился и постоянно жил в Осаке.
По берегам реки Ёсино есть две деревни Кудзу. Название той, что в верхнем течении, пишется одним иероглифом, а той, что в нижнем,– двумя, эта последняя и есть селение, получившее известность благодаря пьесе театра. Но из времен древнего императора Тэмму[68]. Впрочем, знаменитый местный продукт – крахмал «кудзу» – не производят ни в той, ни в другой деревне. Не знаю, каким промыслом занимаются жители верхней деревни, а вот в нижней многие крестьяне кормятся изготовлением бумаги, причем вырабатывают они ее редкостным по нынешним временам, примитивным старинным способом, вымачивая волокна лианы «кудзу» в водах реки Ёсино. В этой деревне часто встречается причудливая фамилия Комбу, родственники Цумуры тоже носили эту фамилию и тоже занимались изготовлением бумаги, причем по этой части им принадлежало первое место во всей деревне. По словам Цумуры, семья эта тоже была довольно старинной, так что, должно быть, имела в прошлом какое-то отношение к последним вассалам Южной династии. Только побывав у них в доме, я впервые узнал, например, какими мудреными иероглифами пишутся названия местных гор и долин Сионоха и Санноко…
Глава семьи, Комбу-сан, рассказал, что от их деревни до долины Сионоха более шести ри, оттуда до ущелья Санноко – еще два ри, а до самого конца, до того места, где некогда обитал Небесный государь, так даже больше четырех… Правда, он знает об этом лишь понаслышке, из их деревни почти никто никогда туда не ходит. Только из рассказов плотогонов, которые спускаются с верховьев реки Ёсино, известно, что в глубине ущелья, на крохотном плоскогорье, именуемом Полянка Хатимана, стоят несколько хижин углежогов, а еще дальше в ущелье, там, где оно как бы замыкается тупиком, есть площадка – она называется Скрытная полянка, – и вот там-то и впрямь сохранились руины дворца Небесного государя, есть и пещера, где прятали священную яшму.
Но даже монахи-ямабуси[69], идущие по обету на вершину Оминэ, не могут туда добраться, так как от самой горловины ущелья на всем его протяжении тянутся отвесные, поистине неприступные скалы и нет ничего похожего хотя бы на какую-нибудь тропинку. Жители деревни Касиваги обычно ходят купаться в горячих источниках, бьющих у речки Сионоха, но оттуда поворачивают назад… Да, в этом ущелье из-под земли бьют бесчисленные горячие ключи, образуя множество водопадов, самый большой называется Мёдзин, но любуются всей этой красотой разве лишь углежоги да дровосеки…
* * *Этот рассказ о плотогонах еще больше обогатил мир моего будущего романа. У меня и без того уже скопилось много как на подбор прекрасного материала, а тут еще эти горячие ключи – еще одна великолепная деталь, лучше невозможно придумать… И все-таки, не будь приглашения Цумуры, я вряд ли отправился бы в такую глушь, потому что, находясь в Токио, уже подобрал все, какие возможно, письменные источники. Когда в твоем распоряжении так много материала, совсем не обязательно самому ехать на место действия, все остальное дорисует собственная фантазия. Пожалуй, может получиться даже эффектней. Но то ли в конце октября, то ли в начале ноября Цумура написал мне:
«Может быть, все-таки съездишь, бросишь взгляд? Как раз подвернулся удобный случай».
Цумуре понадобилось навестить тех самых его родственников в деревне Кудзу.
«До ущелья Санноко мы с тобой, пожалуй, не доберемся,– писал он,– но ты сможешь осмотреть окрестности Кудзу, познакомишься с тамошними краями, с местными обычаями, это безусловно пригодится для твоего романа. Я имею в виду не только события, связанные с Южной династией, – эта местность вся очень интересна, ты сможешь собрать по тамошним деревням оригинальный материал, которого хватит для двух и даже для трех романов… Во всяком случае, напрасной твоя поездка никак не будет! Так что не ленись потрудиться в собственных профессиональных интересах! Время сейчас тоже самое подходящее, для поездки лучшего сезона не выбрать. Все стремятся попасть в Ёсино к весеннему цветению сакуры, но осень там тоже очень и очень недурна…»
Боюсь, мое предисловие чересчур затянулось, но я хотел объяснить, что побудило меня внезапно пуститься в дорогу. Конечно, известную роль сыграли мои, как писал Цумура, «профессиональные интересы», но, по правде сказать, больше всего меня влекло желание беззаботно побродить на лоне природы…
2. Имосэяма
Мы договорились встретиться в Наре; в условленный день Цумура приедет туда из Осаки и будет ждать меня в гостинице «Мусасино», у подножия горы Вакакуса. Со своей стороны, я выехал из Токио ночным поездом, провел сутки в Киото и на следующее утро был в Наре. Гостиница «Мусасино» существует и поныне, но, говорят, хозяин там уже новый, не тот, что двадцать лет назад, да и само здание, на мой взгляд, раньше было более старинным, изысканным. Эта гостиница, да еще гостиница «Кокусуй» считались в те времена самыми первоклассными заведениями, отель, построенный министерством путей сообщения, появился гораздо позже. Цумура, как видно, меня заждался и хотел как можно скорее ехать дальше, да и я в Наре бывал не раз, и чтобы не терять времени, пока день стоит погожий, как на заказ, мы отправились в путь, полюбовавшись из окна гостиницы видом горы Вакакуса всего какой-нибудь час-другой.
Сделав пересадку в Ёсиногути, скрипучей узкоколейкой мы доехали до станции Ёсино и пошли оттуда пешком по дороге, тянувшейся вдоль берега реки Ёсино. У заводи Мацуда – как, наверное, помнят читатели, эта заводь упоминается еще в поэтическом собрании «Манъёсю»[70] – дорога разветвляется надвое. Та, что сворачивает направо, ведет к прославленным местам любования сакурой Ёсино; перейдя мост, сразу попадаешь к Нижней Роще, затем идут Сэкия, храм бога Дзао, Ёсимидзу, Средняя Роща – все места, где в сезон цветения сакуры толпятся приезжие. Мне тоже довелось дважды любоваться сакурой в Ёсино, один раз в детстве, когда мать взяла меня с собой в поездку по знаменитым местам Камигаты[71], а другой раз уже в бытность студентом колледжа. Помнится, тогда я тоже вместе со всей толпой свернул направо. Но налево я шел теперь в первый раз.
Недавно до Средней Рощи пустили автобус, появилась канатная дорога, так что сейчас, пожалуй, никто уже не ходит по этим местам пешком, не спеша обозревая окрестности, но в старину люди, приезжавшие любоваться сакурой, обязательно сворачивали у этой развилки направо и, добравшись до моста через заводь Мацуда, любовались видом реки Ёсино.
– Вот, взгляните туда. Видите, там виднеются горы Имосэяма. Слева – Имояма, а справа – это Сэяма… – непременно говорил проводник-рикша, останавливая приезжих на мосту и указывая вверх по течению.
Помню, моя мать тоже остановила здесь рикшу и, держа меня, совсем еще несмышленыша, на коленях, сказала, нагнувшись к моему уху:
– Помнишь пьесу «Имосэяма»[72] в театре? А вот там – настоящие горы Имосэяма!
Я был еще очень мал, поэтому ясного впечатления не сохранилось, помню только, что было это под вечер, в середине апреля, когда в горном краю еще довольно прохладно.
Под высоким, туманным небом издалека, где как будто смыкались бесконечные горные цепи, текла в нашу сторону окутанная дымкой река Ёсино, только посредине ветерок морщил воду, образуя как бы дорожку, похожую на полоску жатого шелка, а вдали виднелись сквозь вечернюю дымку две хорошенькие круглые горки. Невозможно было отчетливо разглядеть, что они находятся по обе стороны реки, но из пьесы я знал, что горки эти расположены на разных берегах, напротив друг друга. В театре Коганоскэ и его нареченная Хинадори живут в высоких теремах, она – у горы Имояма, он – у горы Сэяма.
В этой сцене сильнее, чем в других эпизодах, чувствуются сказочные мотивы, поэтому на меня, ребенка, она произвела наиболее сильное впечатление.
«A-а, так вот они, горы Имосэяма!» – подумал я, услышав слова матери, и мне показалось, будто стоит только пойти туда, и я увижу Коганоскэ и Хинадори; я погрузился в детские фантастические мечты… С тех пор я хорошо запомнил этот вид с моста, иногда он вдруг всплывал в памяти, вызывая теплое чувство.
Вот почему, когда я снова приехал в Ёсино – мне было тогда уже года двадцать два, – я снова облокотился здесь о перила и, вспоминая мать, в ту пору уже покойную, долго смотрел на открывавшуюся передо мной панораму. В этом месте река вырывается из гор Ёсино на довольно обширную равнину, стремительный горный поток превращается в спокойно, плавно бегущую речку, «течет привольно средь равнины…», а вдали, выше по течению, виднеется городок Камиити с его единственной улицей – скоплением простых деревенских домов с низко нависшими крышами и мелькающими там и сям белыми оштукатуренными стенами амбаров.
…Теперь, не останавливаясь на мосту и свернув у развилки влево, я шел, направляясь к горе Имояма, которую раньше видел только издалека. Дорога, бежавшая вдоль реки все прямо и прямо, казалась на первый взгляд удобной и ровной, потом становится крутой, каменистой; мне сказали, что после городка Камиити, оставив позади деревни Миятаки, Кудзу, Отани, Сако и Касиваги, она постепенно уходит все дальше в горы, к самым истокам реки Ёсино, и, пересекая водораздел между провинциями Ямато и Кии, в конце концов выходит к заливу Кумано.
* * *Мы выехали из Нары довольно рано и потому добрались до Камиити вскоре после полудня. Дома вдоль дороги, как я и думал, когда смотрел на них издали, оказались очень простой, старинной постройки. Местами на бегущей вдоль реки улице линия домов прерывалась, но большей частью эти дома, с низким, словно чердак, вторым этажом и темными, как будто закопченными, решетками сёдзи, вплотную примыкали друг к другу, заслоняя вид на реку. Бросив взгляд сквозь эти решетки в сумеречную глубину дома, можно было увидеть непременную особенность деревенских жилищ – длинный немощеный проход, ведущий через все строение во двор. Нередко над входом в этот коридор висел традиционный короткий занавес «норэн», на темно-синей ткани которого белой краской выписывают торговую марку и фамилию хозяина, – очевидно, в этих местах принято вешать такие занавески не только над входом в лавку, но и в обычные жилые дома… Карнизы повсюду нависают так низко, как будто крыша придавила весь дом к земле, вход тесный, за занавеской мелькают деревья в маленьком дворике, иногда видны отдельно стоящие флигельки. В здешних краях многим домам добрых пятьдесят, а то, пожалуй, все сто или, может быть, даже двести лет. Но при этом сёдзи повсюду оклеены безупречно новой, светлой бумагой. Кажется, будто их только что оклеили заново, нигде ни пятнышка, крохотные дырочки аккуратно заклеены кружочками, вырезанными в форме цветка – в прозрачном, чистом осеннем воздухе эти сёдзи сверкали прохладной белизной. Конечно, пыли здесь нет, отсюда эта безупречная чистота, но кроме того, здесь не знают застекленных сёдзи, как в городе, и люди относятся к бумаге бережнее, чем горожане. В Токио и в предместьях можно защитить сёдзи дополнительным слоем застекленных рам, там же, где это невозможно, из-за грязной бумаги в доме будет темно, а если она порвется, сквозь дыры будет задувать ветер, а это уже не шутка!.. Как бы то ни было, все эти стоявшие в ряд дома с их почерневшими от времени деревянными стенами и решетками напоминали красавицу, пусть бедную, но опрятную, тщательно следящую за своей внешностью. «Да, вот и осень…» – всем своим существом ощутил я при виде этой освещенной солнцем бумаги.
В самом деле, хотя небо было безоблачным, отраженные бумагой лучи не резали глаз, мягкий, прекрасный свет, казалось, проникал в душу. Солнце склонилось над рекой, освещая сёдзи на левой стороне улицы, но отблеск лучей чуть ли не до половины озарял дома на противоположной стороне. Особенно красиво выглядела хурма, выложенная рядами в лавке зеленщика. Плоды разной формы, разных сортов, спелые, кораллово-глянцевитые, блестели как живые в заливавшем улицу свете. Даже связки лапши в стеклянных ящиках у торговца лапшой казались необычайно яркими. Перед домами на расстеленных рогожах сушился в корзинках древесный уголь, откуда-то доносился звон кузнечного молота и шуршание крупорушки.
* * *Дойдя до околицы, мы закусили в харчевне на берегу реки. Горы Имосэяма, казавшиеся такими далекими, когда я смотрел на них с моста, высились здесь прямо перед глазами, Имояма на этом берегу, Сэяма – на том. Несомненно, именно этот вид вдохновил автора пьесы «Имосэяма, или Семейные наставления для женщин», однако на самом деле река в этом месте довольно широка, не тот узкий поток, который мы видим в театре… Даже если Коганоскэ и Хинадори жили по берегам этой речки, они не могли бы переговариваться, как это происходит на сцене.
У горы Сэяма, примыкающей к горному кряжу, очертания неправильной формы, зато Имояма – совсем отдельно стоящая округлая возвышенность, вся укутанная в пышную зелень. Городок Камиити примыкает к самому подножью этой маленькой горки. Со стороны реки видно, что у всех домов есть, оказывается, еще по одному этажу, двухэтажные дома на самом деле трехэтажные. У некоторых с верхнего этажа протянута к реке проволока со свисающим на веревке ведром, чтобы черпать воду.