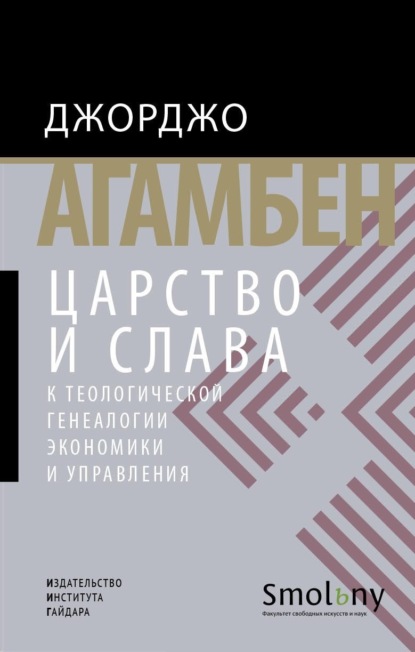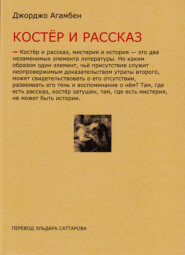По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Царство и Слава. К теологической генеалогии экономики и управления
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как бы то ни было, изувеченный король исцелится лишь тогда, когда Галахэд в конце qu?te[77 - Поиски, розыски, искания (фр.).] смажет его рану кровью с копья, пронзившего бок Христа.
Образ изувеченного и немощного короля получил самые разнообразные толкования. В своей книге, оказавшей значительное влияние не только на артурианские исследования, но и на поэзию ХХ века, Джесси Уэстон связывает образ Короля-рыбака с «божественным началом жизни и плодородия», с тем самым «Духом Растительности», который автор, вслед за Фрезером и англосаксонскими фольклористами, с немалой долей эклектизма обнаруживает в ритуалах и мифологических образах, восходящих к самым разнообразным культурным традициям, – от вавилонского Таммуза до греко-финикийского Адона.
Во всех этих толкованиях в тени остается тот факт, что легенда, помимо всего прочего, несомненно содержит в себе подлинно политическую мифологему, которая без особых натяжек может быть истолкована как парадигма разделенной и бессильной верховной власти. Ничуть не утратив своей легитимности и сакральности, король действительно по какой-то причине оказался отделен от своих полномочий и дел, доведенный до бессилия. Он не только не может охотиться или ездить верхом (занятия, которые, по всей видимости, символизируют здесь светскую власть), но вынужден оставаться взаперти в своих покоях, пока его министры (сокольничие, лучники и охотники) осуществляют управление от его имени и вместо него. В этом смысле раскол верховной власти, воплощенный в образе короля-рыбака, будто бы отсылает к дуальности, которую Бенвенист усматривает в индоевропейском институте царской власти, между функцией преимущественно религиозно-магической и функцией непосредственно политической. Однако в легендах о Граале акцент скорее делается на бездеятельном и отделенном характере изувеченного короля, который – по крайней мере до тех пор, пока его не исцелит прикосновение магического копья, – исключен из всякой конкретной деятельности, связанной с правлением. Roi mehaigniе, стало быть, являет собой своего рода прообраз современного правителя, который «царствует, но не правит»; и в этом плане легенда, возможно, заключает в себе смысл, который касается нас более непосредственным образом.
4.2. Прежде чем обратиться к проблеме божественной монархии в начале своей книги «Монотеизм как политическая проблема», Петерсон дает краткий анализ псевдоаристотелевского трактата «О мире», в котором он видит нечто вроде переходного звена между аристотелевской политикой и иудаистской концепцией божественной монархии. Если у Аристотеля Бог представлен как трансцендентное начало всякого движения, которое правит миром подобно тому, как стратег ведет свою армию, – то здесь, по наблюдению Петерсона, Бог уподобляется кукловоду, который, оставаясь невидимым и дергая за нитки, приводит в движение свою куклу, – или же великому царю персов, который, скрываясь в своем дворце, правит миром посредством бесчисленных иерархий министров и чиновников.
Первостепенным в отношении образа божественной монархии здесь является не вопрос о том, наделена ли она одной или несколькими властями (Gewalten), но вопрос о том, причастен ли Господь силам [M?chten], которые действуют в космосе. Автор хочет сказать следующее: Бог есть предпосылка к тому, чтобы сила (он пользуется термином из стоической терминологии dynamis, но имеет в виду аристотелевское kynesis) действовала в космосе, но именно по этой причине он сам не является силой: le roi regne, mais il ne gouverne pas[78 - «Король царствует, но не правит» (фр.).]. [Peterson 1. P. 27.]
По мысли Петерсона, в псевдоаристотелевском трактате метафизико-теологические и политические парадигмы тесно переплетены между собой. Окончательное оформление метафизического образа мира, – пишет он, почти буквально воспроизводя тезис Шмитта, – всегда обусловлено политическим решением. В этом смысле «различие между Macht (potestas, dynamis) и Gewalt (arche), которое автор трактата постулирует в отношении Бога, представляет собой метафизико-политическую проблему», которая может принимать различные формы и значения и быть развернута как в направлении разграничения между auctoritas и potestas, так и в направлении гностического противопоставления бога и демиурга.
Прежде чем рассмотреть стратегические причины этого необычного экскурса в область теологического значения, заключенного в противопоставлении царства и правления, – для подтверждения обоснованности такого обращения будет весьма кстати более подробно изучить текст, послуживший его основой. Неизвестный автор трактата – по мнению большинства ученых, он мог принадлежать к тому же кругу эллинистических иудеев-стоиков, из которого вышли Филон и Аристобул, – в действительности не столько проводит различие между arche и dynamis в Боге, сколько (совершая таким образом жест, который сближает его со Святыми Отцами, разрабатывающими христианскую парадигму ойкономии) вводит разграничение между сущностью (ousia) и могуществом (dynamis). Древние философы, – пишет он, – утверждавшие, что весь чувственный мир полон богов, выражали суждение, применимое не к бытию Бога, а к его могуществу[79 - В существующем русском переводе: «Тем самым древние смогли дать надлежащее понятие о силе Бога, но не о его сущности».] (Aristot. Mund., 397b). В самом деле, если Бог пребывает в высшей из небесных сфер, то его могущество «пронизывает весь космос, являясь причиной сохранения [soterias, „спасения“] всех вещей, что ни есть на земле» (ibid., 398b). Он является одновременно спасителем (soter) и породителем (generator) всего, что ни происходит во вселенной. И все же он «не трудится единолично и самостоятельно [autourgou], но пользуется неисчерпаемой мощью, посредством которой господствует также в далеких от него областях» (ibid., 397b). Стало быть, могущество Бога, которое становится будто бы независимым по отношению к его сущности, можно уподобить – и здесь очевидна отсылка к десятой главе книги ? «Метафизики» – главе армии на поле боя («все приводится в движение по единому знаку главнокомандующего, наделенного высшими полномочиями», Mund., 399b) или же внушительному административному аппарату персидского царя:
Сам царь, как сказывают, жил в Сузах или Эктабанах, скрытый от посторонних глаз за оградой великолепного царского дворца [basileion oikon], сверкающей золотом, янтарем и слоновой костью. К дворцу вела анфилада величественных ворот, далеко отстоявших друг от друга. Все ворота были медные и имели особые преддверия, вправо и влево уходили высокие стены. Снаружи по порядку размещались знатнейшие и славнейшие мужи: копьеносцы и слуги вокруг самого царя, а затем стражи каждой ограды, называемые привратниками и слухачами, – выходило, что сам царь, величаемый господином и богом, все видел и слышал. Отдельно размещались сборщики пошлин, военачальники и распорядители охоты, приемщики подарков, а также люди, приставленные ко всему остальному. […] Также были скороходы, сторожи, гонцы [aggeliaforoi] и наблюдатели сигнальных огней. И так все было идеально устроено, что царь узнавал обо всем происходящем в Азии в тот же день (в этом особенно помогали сигнальные огни). Но необходимо разуметь, что персидскому царю так же далеко до властвующей в космосе божественности, как до него самого – слабой и ничтожной твари. И если нечестиво полагать, что Ксеркс лично всем занимается и сам осуществляет управление, во все вникая, то тем менее подобает мыслить такое в отношении Бога[80 - За основу перевода данного отрывка принят перевод И. И. Маханькова: внесены лишь некоторые изменения в соответствии с вариантом перевода, представленным Агамбеном.]. [Ibid., 398a–398b.]
Так, характерным образом административный аппарат, с помощью которого земные правители обеспечивают сохранность своего царства, становится парадигмой божественного управления миром. Однако автор трактата тут же спешит уточнить, что аналогия между Божьим могуществом и бюрократическим аппаратом не должна приводить к окончательному разделению между Богом и его могуществом (точно так же, по мысли Святых Отцов, ойкономия не должна предполагать расщепления божественной сущности). В отличие от земных правителей, Бог не нуждается во «множестве чужих рук» (polycheirias), но «через простое движение первой небесной сферы он передает свою мощь вещам за ней следующим, а от них постепенно доводит ее и до вещей самых отдаленных». Если истинно то, что король царствует, но не правит, в таком случае его правление – то есть его могущество – не может быть полностью от него отделено (ibid., 398b). В данном смысле налицо почти полное соответствие между стоико-иудаистской концепцией божественного управления миром и христианской идеей провиденциальной экономики, что подтверждается пространным отрывком из шестой главы, в котором это правление описывается в терминах самого настоящего провиденциального устроения вселенной:
Из этих движений, согласно звучащих и кружащихся по небу словно в танце, возникает единая гармония, происходящая из единого источника и разрешающаяся также в едином, поэтому воистину мироздание называется «космосом» [устроением], а не «акосмией» [безобразием]. Как вслед за корифеем, запевающим песню, ее подхватывает мужской или также женский хор, из разных высоких и низких голосов составляющий стройную гармонию, то же происходит и с устраивающим мироздание Богом: по знаку этого нарицаемого корифеем божества вечно движутся звезды и небо. Движется двойным обращением и яркое Солнце: своими восходами и заходами оно разделяет день и ночь, а смещаясь то севернее, то южнее, – устанавливает четыре времени года. В определенное время идет дождь, дует ветер, выпадает роса, происходят все явления – все вследствие первой и изначальной причины[81 - Перевод на русский язык И. И. Маханькова.]. [Ibid., 399a]
Аналогия, связывающая образы трактата «О мире» и образы, использованные теоретиками ойкономии, такова, что применение термина oikonomeo в отношении божественного управления миром, которое сравнивается с действием закона в городе («закон, оставаясь неподвижным, устрояет все вещи, panta oikonomei», ibid., 400b), не представляется неожиданным. Тем большее удивление вызывает тот факт, что и в этом случае Петерсон воздерживается от малейшего намека на экономическую теологию, что тем не менее позволило бы рассматривать этот текст в его связи с иудейско-христианской политической теологией.
4.3. В своем запоздалом, полном негодования ответе Петерсону Карл Шмитт с особой тщательностью анализирует контекст, в котором теолог использовал «пресловутую формулу» le roi r?gne, mais il ne gouverne pas в своем трактате 1935 года. «Я полагаю, – не без иронии пишет он, – что включение этой формулы в данный контекст представляет собой наиболее примечательный вклад, который Петерсон – возможно, неосознанно – внес в политическую теологию» (Schmitt 4. P. 42). Шмитт прослеживает истоки этой формулы, обнаруживая ее у Адольфа Тьера, который использует ее в качестве лозунга парламентарной монархии, а еще раньше – в ее латинском варианте (rex regnat, sed non gubernat) – в полемике, разгоревшейся в XVIII веке вокруг фигуры польского короля Сигизмунда III. Тем большее удивление вызывает у Шмитта то, насколько решительным жестом Петерсон смещает происхождение формулы в прошлое, возводя ее к самым истокам христианской теологии. «Это доказывает, сколько раздумий и какая работа мысли могут быть вложены в формулирование приемлемой теолого-политической или метафизико-политической доктрины…» (Ibid. P. 43). Таким образом, подлинный вклад Петерсона в политическую теологию состоит не в том, что ему удалось доказать невозможность христианской политической теологии, но в том, что он сумел усмотреть аналогию между либеральной политической парадигмой, которая разделяет царствование и правление, и парадигмой теологической, разграничивающей в Боге arche и dynamis.
Однако даже здесь кажущееся разногласие между двумя противниками скрывает под собой более сущностное единодушие. Как Петерсон, так и Шмитт по сути являются убежденными противниками этой формулы: Петерсон – потому, что она определяет иудейско-эллинистическую теологическую модель, лежащую в основе политической теологии, которую он намеревается подвергнуть критике; Шмитт – поскольку она служит эмблемой и лозунгом либеральной демократии, против которой он ведет свою борьбу. Для того чтобы понять стратегические импликации проводимой Петерсоном аргументации, принципиально важно прояснить не только то, что в ней озвучено, но и то, что в ней замалчивается. Как мы уже имели возможность убедиться, разграничение между царствованием и правлением действительно имеет свою теологическую парадигму не только в иудаизме эллинистического толка, как полагает Петерсон, казалось бы, принимая это за некую данность, – но также и в трудах христианских теологов, которые между III и V веком обосновывают разграничение между бытием и ойкономией, между теологической рациональностью и рациональностью экономической. Иными словами, причины, по которым Петерсон стремится удержать парадигму Царствование/Правление в пределах иудаистской и языческой политической теологии, суть те же, в силу которых он обходит молчанием изначальную «экономическую» формулировку тринитарной доктрины. Иначе говоря, речь шла о том, чтобы, отринув, вопреки Шмитту, теолого-политическую парадигму, всячески воспрепятствовать (и здесь Петерсон действует созвучно Шмитту) тому, чтобы ей на смену пришла теолого-экономическая парадигма. Тем более безотлагательным в этом свете представляется новое, углубленное генеалогическое исследование предпосылок и теологических импликаций разграничения Царство/Правление.
? По мысли Петерсона, «экономическая» парадигма в узком смысле является неотъемлемой частью иудаистского наследия Нового времени, в котором банк стремится занять место храма. Лишь голгофская жертва Христа ознаменует собой конец жертвоприношений в еврейском храме. Действительно, по Петерсону, изгнание торговцев из храма свидетельствует о том, что за голгофской жертвой Христа стоит «диалектика денег и жертвоприношения». После разрушения храма евреи попытались подменить жертвоприношение милостыней.
Жертвуемые Богу и накапливаемые в храме деньги превращают храм в банк […]. Евреи, которые отвергли политический порядок, когда заявили, что над ними нет никакого царя […], осуждая Христа за его высказывания против храма, стремились спасти экономический порядок. [Peterson 2. P. 145.]
Именно эта подмена политики экономикой в результате жертвы Христа стала невозможной.
Наши банки превратились в храмы, но именно они делают очевидным в так называемом экономическом порядке превосходство кровавой голгофской жертвы и доказывают невозможность спасти то, что исторично […]. Подобно тому как в политическом порядке светские царства народов земли после эсхатологической жертвы не могут быть «спасены», «экономический порядок» евреев не может быть сохранен в форме связующего отношения между храмом и деньгами [Ibid.].
Таким образом, как политическая, так и экономическая теология исключаются из христианства как чисто иудаистское наследие.
4.4. Враждебность Шмитта в отношении любых попыток разграничить Царство и Правление, и в частности его неприятие либерально-демократической доктрины разделения властей, которая тесно связана с этим разграничением, часто проступает в его работах. Уже в «Verfassungslehre»[82 - «Теория конституции» (нем.).] 1927 года он употребляет эту формулу в отношении «парламентской монархии в бельгийском стиле», в которой управление делами находится в руках министров, тогда как король представляет своего рода «нейтральную власть». Единственное положительное значение, которое Шмитт, по видимости, признает за разделением Царства и Правления, – восходит к разграничению между auctoritas и potestas:
Вопрос, который задал великий знаток общественного права, Макс фон Зайдель: «Что остается от regner, если убрать gouverner?» – может быть разрешен лишь в рамках разграничения между potestas и auctoritas: тогда проясняется и особый смысл авторитета перед лицом политической власти [Schmitt 4. P. 382–383].
Этот смысл раскрывается в эссе 1933 года «Государство, движение, народ», в котором Шмитт, пытаясь сделать набросок новой конституции националистического рейха, по-новому переосмысляет разграничение между Царством и Правлением. Хотя во время обостренных социально-политических конфликтов в Веймарской республике он энергично выступал за расширение полномочий рейхспрезидента как «гаранта конституции», Шмитт теперь утверждает, что президент «вновь занял своего рода „конституционную“ позицию авторитарного главы Государства, qui r?gne et ne gouverne pas» (Schmitt, 5. P. 10). Теперь перед этим неправящим сувереном предстает, в лице Адольфа Гитлера, не просто функция управления (Regierung), но новая фигура политической власти, которую Шмитт называет F?hrung и которую как раз-таки следует отличать от традиционного правления. В этом контексте он намечает генеалогию «управления людьми», которая, кажется, в головокружительной перспективе предвосхищает генеалогию, которая в середине 1970-х составит предмет занятий Мишеля Фуко в рамках его лекционных курсов в Коллеж де Франс. Как и Фуко, Шмитт видит в пастырстве католической церкви парадигму современной концепции управления:
Вести [f?hren] не означает повелевать. […] Во имя укрепления своей власти над верующими римско-католическая церковь превратила образ пастуха и стада в догматико-теологическую идею. [Ibid. P. 41]
Точно так же в знаменитом пассаже из диалога «Политик» Платон
говорит о различных метафорах, применяемых в отношении правителя: последний сравнивается с врачом, пастухом и кормчим; в итоге в качестве наиболее удачного утверждается сравнение с кормчим. Через слово gubernator оно проникло во все романские и англосаксонские языки, формировавшиеся под влиянием латыни, и в итоге стало означать управление [Regierung]: gouvernement, governo, government, или же gubernium старой Габсбургской монархии. История слова gubernator являет собой замечательный пример того, каким образом причудливое сравнение может лечь в основу узкоюридического понятия. [Ibid. P. 41–42.]
? Именно на фоне этих размышлений об управлении Шмитт пытается подчеркнуть «исконно немецкий смысл» (Ibid. P. 42) националистического концепта F?hrung, который «берет свое начало не в барочных аллегориях и представлениях [аллюзия на теорию суверенитета, которую Беньямин развивает в работе „Происхождение немецкой барочной драмы“] или „в общей картезианской идее“, а „непосредственно в настоящем, и связан он с реальным присутствием“ (Ibid.). Однако такое обособление не очень убедительно, поскольку „исконно немецкого смысла“ термина попросту не существует, а слово F?hrung, как и глагол f?hren и существительное F?hrer (в отличие от итальянского „дуче“, которое в истории уже претерпело сужение значения до военно-политической области – например, в случае венецианского „дож“), отсылает к чрезвычайно обширной семантической сфере, включающей в себя любую ситуацию, в которой некто направляет и ориентирует движение живого существа, транспортного средства или объекта (включая, разумеется, случай губернатора, то есть кормчего). Впрочем, чуть ранее анализируя троичное расчленение национал-социалистической материальной конституции на „Государство“, „движение“ и „народ“, Шмитт определил народ как „аполитичную сторону“ [unpolitische Seite], которая формируется под защитой и в тени политических решений» (Ibid. P. 12), тем самым недвусмысленно закрепляя за партией и за Фюрером характерную пастырскую и управленческую функцию. Специфику же F?hrung в отношении пастырско-управленческой парадигмы, по мысли Шмитта, составляет то, что если в рамках последней «пастырь остается абсолютно трансцендентным по отношению к стаду» (Ibid. P. 41), то первая, напротив, определяется исключительно «исходя из абсолютного видового равенства [Artgleichheit] между Фюрером и его последователями» (Ibid. P. 42). Концепт F?hrung выступает здесь в качестве секуляризации пастырской парадигмы, в рамках которой упраздняется трансцендентный характер последней. Однако для того, чтобы высвободить F?hrung из тисков управленческой модели, Шмитт вынужден придать конституционный статус понятию расы, благодаря которому аполитичный элемент – народ – политизируется единственно возможным, согласно Шмитту, образом, то есть благодаря превращению племенного равенства в критерий, который, отделяя чужое от тождественного, всякий раз служит основой для принятия решения о том, кто есть друг, а кто есть враг. Не без аналогии с анализом, который разовьет Фуко в «Il faut dеfendre la societе»[83 - Речь идет о работе Фуко «Нужно защищать общество».], расизм таким образом становится диспозитивом, посредством которого суверенная власть (которая для Фуко совпадает с властью над жизнью и смертью, а у Шмитта – с решением о чрезвычайном положении) вновь включается в биовласть. Таким образом экономико-управленческая парадигма возвращается в подлинно политическую сферу, в которой разделение властей теряет свой смысл, а акт управления (Regierungakt) уступает место уникальной деятельности, посредством которой «Фюрер утверждает свое высшее F?hrertum».
4.5. Теологическая парадигма разграничения Царства и Правления обнаруживается у Нумения. Этот философ-платоник, творивший примерно во второй половине II века и оказавший значительное влияние на Евсевия Кесарийского – а через него и на всю христианскую теологию, – выделяет двух богов. Первый из них, называемый царем, непричастен к миру, трансцендентен и совершенно бездеятелен; второй, напротив, деятелен и занимается управлением миром.
Весь 12-й фрагмент, сохраненный Евсевием (Praep. Evang. II, 18, 8), посвящен вопросу о деятельности или бездействии первого бога:
Первому богу нет надобности быть деятельным [demiourgein]; его также следует рассматривать как отца бога деятельного. Теперь, если мы наше исследование направим на творящее начало, говоря, что первоначало, существуя прежде, должно действовать особенным образом, это было бы подобающим вступлением к нашему рассуждению. Но если не о творящем начале это исследование, а направлено оно на первопричину, то я беру назад сказанное, […] первый бог пребывает в покое [argon] в том, что касается дела творения, ибо он царь [basilea]; а бог-демиург [demiourgikon] управляет всем [hegemonein], шествуя по небу. [Num. Fr. 12. P. 54.]
Еще Петерсон заметил, что центральным здесь является не столько вопрос о наличии одного или нескольких богов, сколько о том, причастно ли высшее божество к силам, управляющим миром: «Таким образом, из принципа, согласно которому Бог царствует, но не правит, проистекает гностическое следствие, состоящее в том, что царство Божье есть благо, а правление демиурга – то есть творящих сил, которые можно также причислить к категории функционеров, – является злом; иными словами, что правление всегда несправедливо» (Peterson 1. P. 27–28). В данном смысле гностическая политическая концепция не просто противополагает благого бога злому демиургу, но также – и главным образом – проводит разграничение между богом праздным, никоим образом не связанным с миром, и богом, который активно вмешивается в дела мира с целью им управлять. Иными словами, противопоставление Царства и Правления составляет часть гностического наследия новоевропейской политики.
Каков смысл этого разграничения? И почему первый Бог называется «царем»? В одном своем поучительном сочинении Хайнрих Дорри восстановил платонические (а именно восходящие к периоду Старой Академии) истоки этой метафоры царства в применении к божеству. Она восходит к эзотерическому отступлению во Втором платоновском (или псевдоплатоновском) письме, в котором проводится различие между «царем всего сущего» (panton basilea), который есть причина и цель всех вещей, и вторым и третьим богом, вокруг которого располагаются все вторые и третьи вещи (Plat. Epist. 2, 312e). Дорри прослеживает историю этого образа на материале сочинений Апулея, Нумения, Оригена и Клемента Александрийского вплоть до самого Плотина, в «Эннеадах» которого этот образ возникает четыре раза. Предполагается, что в стратегии «Эннеад» метафора бога-царя, с ее уравниванием небесной и земной власти, позволяет «прояснить теологию Плотина, направленную против гностиков» (D?rrie. P. 233):
Плотин присваивает ее себе, поскольку видит в ней выражение центрального момента его собственной теологии. С другой стороны, здесь необходимо сослаться на издревле господствующее представление о Боге, не проводящее различия между властью земной и властью небесной: Бог должен быть окружен иерархически организованным придворным штатом – точь-в-точь как земной правитель. [Ibid. P. 232.]
Таким образом, теология Нумения дает дальнейшее развитие парадигме, не только гностической по своим истокам, но распространенной еще в древнем и в среднем платонизме: поскольку в ней утверждаются две (или три) божественные фигуры, различные и в то же время связанные между собой, она не могла не возбудить интерес теоретиков христианской ойкономии. Однако специфическая функция этой теологии заключается в противопоставлении действия и бездействия, трансцендентности и имманентности. То есть она представляет собой крайнее проявление тенденции, радикально разрывающей Царство и Правление на основе отделения монарха, сущностно чуждого мирозданию, от имманентного управления сущим. Примечательно в этом отношении проводимое в 12-м фрагменте терминологическое противопоставление между basileus (в отношении первого бога) и hegemonein (в отношении демиурга), означающем особую активную функцию руководства и начальствования: hegemon (как и латинское dux) в зависимости от ситуации может означать животное, ведущее за собой стадо, возницу, военнокомандующего, и – технически – правителя провинции. Тем не менее, притом, что у Нумения разграничение между Царством и Правлением четко прочерчено, два термина все же не утрачивают взаимосвязи, и второй бог в некотором роде представляет собой необходимое дополнение первого. В этом смысле демиург сравнивается с кормчим, и если последний обращает свой взор к небу, чтобы найти дорогу, то первый для того, чтобы ориентироваться в деле управления, «вместо неба созерцает высшего бога» (fr. 18). В другом фрагменте отношения между первым богом и демиургом уподобляются отношениям сеятеля и пахаря: земной бог (пахарь) бдит и распределяет семена, которые первый посеял в душах (fr. 13). Бог правящий, по сути, нуждается в боге бездеятельном и предполагает его существование – точно так же, как последний нуждается в деятельности демиурга. Итак, все свидетельствует о том, что царство первого бога составляет вместе с правлением демиурга единую функциональную систему – подобно тому, как в христианской ойкономии бог, который осуществляет дело спасения, в действительности выполняет волю отца, хотя является при этом анархичной ипостасью.
? В истории раннехристианской церкви наиболее радикальным поборником гностической антиномии чуждого миру бога и земного демиурга был Маркион («Gott ist der Fremde»: этим слоганом Гарнак резюмирует его доктрину: Harnack. P. 4). В этой перспективе христианскую ойкономию можно рассматривать как попытку преодолеть маркионизм, размещая гностическую антиномию внутри божества и таким образом примиряя чуждость миру и правление миром. Бог, мир создавший, лицезреет природу, развращенную грехом и отчужденную, которую бог-спаситель, наделенный функцией управления миром, должен искупить во имя царства, не имеющего к этому миру никакого отношения.
? Необычная фигура deus otiosus[84 - Бог праздный (лат.).], который при этом является и творцом, встречается в «Апологии» Апулея, где summus genitor[85 - Высший родитель (лат.).]и assiduus mundi sui opifex[86 - Усердный творец своего мира (лат.).]определяются как «sine opera opifex», «творец без творения», и «sine propagatione genitor», «родитель без потомства» (Apol. 64).
4.6. Философская парадигма разграничения между Царством и Правлением содержится в заключительной главе книги ? «Метафизики»: именно отсюда Петерсон заимствует цитату, которой он открывает свой трактат, направленный против политической теологии. Аристотель только что завершил изложение того, что принято называть его «теологией»: в ней Бог предстает как неподвижный перводвигатель, который движет небесные сферы и форма-жизни (diagoge) которого являет собой в своей сущности мышление мышления. Следующая, десятая глава посвящена – вне какой-либо логической последовательности, по крайней мере, на первый взгляд – проблеме отношения между благом и миром (или вопросу о том, каким образом «всеобщая природа содержит в себе благо») и традиционно толкуется как теория превосходства парадигмы трансцендентности над парадигмой имманентности. Так, в своем комментарии к книге ? «Метафизики» Фома Аквинский утверждает, что «существующее отдельно благо, которое есть перводвигатель, превосходит благо, заключенное в порядке мирового целого» (Sent. Metaph. Lib. 12. L. 12, n. 5). Схожим образом автор последнего научного издания аристотелевского текста, Уильям Д. Росс, утверждает, что «согласно изложенному здесь учению, благо существует не только имманентно в мире, но и трансцендентно – в Боге, ведь именно Он является источником всякого земного блага» (Ross. P. 401).
Отрывок, о котором идет речь, представляет собой одно из самых сложных и насыщенных смыслами мест трактата и никоим образом не может быть сведен к такому упрощенному синтезу. Трансцендентность и имманентность не просто соотносятся в нем как высшее и низшее, но сочленены между собой таким образом, что сливаются в единую систему, в которой существующее отдельно благо и имманентный порядок образуют космогоническую и одновременно политическую (или экономико-политическую) машину. Это тем более знаменательно в свете того, что, как мы убедимся, все средневековые комментаторы видят в десятой главе книги ? «Метафизики» изложение теории божественного управления (gubernatio) миром.
Обратимся к интересующему нас пассажу. Аристотель начинает с того, что излагает проблему в форме дихотомической альтернативы:
Необходимо рассмотреть, каким из двух способов содержит природа мирового целого благо и наилучшее – как нечто существующее отдельно [kechorismenon] и само по себе [kath'hauto] или как порядок [taxin]. [Metaph. 10, 1075a.]
Если трансцендентность определена здесь в традиционных терминах отделения и автономии, то важно отметить, что фигура имманентности, напротив, является фигурой порядка, то есть представляет собой связь каждой вещи со всеми остальными. Имманентность блага означает taxis, порядок. Однако модель тут же усложняется, и посредством сравнения, заимствованного из военного искусства (которое почти наверняка стоит у истоков аналогичного образа, который мы встретили в «De mundo»), альтернатива превращается в компромисс:
Или же и тем и другим способом, как [происходит] у войска [strateuma]. Ведь здесь благо состоит в порядке, но и сам предводитель войска [strategos] – благо, и скорее даже он: ведь не он зависит от порядка, но порядок зависит от него. [Ibid.]
Последующий отрывок проясняет, каким образом следует понимать идею имманентного порядка, чтобы она согласовывалась с трансцендентностью блага. С этой целью Аристотель, оставив в стороне военную метафору, прибегает к примерам из природного мира— и главным образом к тем из них, которые связаны с управлением домом:
В самом деле, все взаимно упорядочено [syntetaktai] определенным образом – и рыбы, и птицы, и растения, но притом неодинаковым способом; и дело обстоит не так, что одно не имеет никакого отношения к другому; ибо есть что-то [что упорядоченно связывает их между собой]. Воистину все упорядочено по отношению к единому, но так, как это бывает в доме [en oikiai], где свободным меньше всего полагается делать все, что придется, ибо для них все или большая часть [дел] определены, между тем у рабов и у животных мало что имеет отношение к общему, а большей частью им остается действовать согласно случаю. Начало, которое ими управляет [arke], для каждого является его природой. Всякая вещь, по моему разумению, должна занимать свое особое место, и точно так же есть и другое, в чем участвуют все для [блага] целого. [Ibid.]
Любопытно, что примирение трансцендентности и имманентности посредством идеи взаимной упорядоченности вещей осуществляется через обращение к метафоре «экономической» природы. Единство мира сравнивается с порядком в доме (а не с порядком в городе); и все же именно эта экономическая парадигма (которая, согласно Аристотелю, по определению является монархической) позволяет в конце концов вновь ввести метафору политического характера: «Сущее не желает быть плохо управляемым [politeuesthai kakos]. Нет в многовластии блага, да будет единый властитель» [Ibid. 1076а]. Ведь в управлении домом единое начало, которое все упорядочивает, проявляется разными способами и в разной мере – сообразно различной природе отдельных существ, которые являются его частью (связывая воедино высшее начало и природу, arche и physis, Аристотель предлагает формулу, которая ляжет в основу продолжительной теологической и политической традиции). Свободные люди, будучи существами рациональными, пребывают с ним в непосредственной и сознательной связи и не действуют случайно, тогда как рабы и домашние животные могут лишь следовать своей природе, которая тем не менее содержит (хоть и всякий раз в разной мере) отражение единого порядка, вследствие которого они стремятся к общей цели. Это означает, что в конечном счете неподвижный двигатель как трансцендентное arche и имманентный порядок (как physis) формируют единую биполярную систему и что, несмотря на разнообразие и различие между природами, домом-миром управляет единое начало. Власть – всякая власть, человеческая и божественная – должна удерживать в себе эти два полюса, то есть быть одновременно царством и правлением, трансцендентной нормой и имманентным порядком.
4.7. Всякое толкование десятой главы книги ? «Метафизики» должно исходить из анализа понятия taxis, «порядок», которое в тексте не определено тематически, но лишь проиллюстрировано посредством двух парадигм, относящихся соответственно к военному искусству и к сфере управления домом. Впрочем, этот термин неоднократно встречается в трудах Аристотеля, хотя при этом он никогда не является объектом полноценного определения. К примеру, в «Метафизике», 985b, он упоминается наряду со schema и thesis в контексте разговора о различиях, которые, согласно атомистам, обусловливают множественность сущего: taxis отсылает к diathige, к взаимной связи, которая иллюстрируется при помощи различия между АN и NA. Аналогичным образом в «Метафизике», 1022а, расположение (diathesis) определяется как «упорядочение [taxis] того, что состоит из частей, согласно месту, способности или форме». А в «Политике» (1298a 8–10) конституция (politeia) определяется как taxis (взаимное упорядочение) между властями (archai), при этом «существует столько же форм конституции, сколько возможных taxei между частями». Стало быть, именно в интересующем нас отрывке это общее значение термина «порядок» уступает место его стратегическому смещению в область слияния онтологии и политики: это делает из него важнейший terminus tecnicus западной политики и метафизики, хотя как таковой он редко становился объектом исследований.
Как мы видели, Аристотель начинает с того, что противопоставляет понятие порядка тому, что существует отдельно (kechorismenos) и само по себе (kath'hauto). Таким образом, порядок структурно включает в себя идею взаимной имманентной связи: «Все взаимно упорядочено определенным образом, […] и дело обстоит не так, что одно не имеет никакого отношения к другому» (Metaph. 1075a). Выражение, которое использует Аристотель (thateroi pros thateron meden), решительно вписывает понятие порядка в область категории отношения (pros ti): порядок, таким образом, является отношением, а не субстанцией. Но смысл этого понятия можно уяснить, лишь учитывая место, которое оно занимает в книге ? «Метафизики».
Книга ? по сути всецело посвящена проблеме онтологии. Всякий, кто хотя бы поверхностно знаком с философией Аристотеля, знает, что одной из основных проблем ее толкования, по сей день вызывающей споры среди комментаторов, является двоякая детерминированность объекта метафизики: бытие отделенное или бытие как таковое. «Эта двоякая характеристика prote philosophia, – пишет Хайдеггер, – не предполагает двух принципиально различных и независимых друг от друга путей мысли, так же как не предполагает ослабления одного ради другого; и уж совсем невозможно наскоро примирить эту мнимую двойственность в некоем единстве» (Heidegger 1. P. 17). Книга ? как раз содержит так называемую теологию Аристотеля, то есть учение об отделенной сущности и о неподвижном двигателе, который, существуя отдельно, тем не менее приводит в движение небесные сферы. Именно для того, чтобы воспрепятствовать расщеплению объекта метафизики, Аристотель вводит на данном этапе рассуждения концепцию порядка. Это теоретический диспозитив, позволяющий мыслить взаимосвязь между двумя объектами, которая изначально, как следует из процитированного выше отрывка, предстает как вопрос о способе, которым природа универсума обладает благом: «Необходимо рассмотреть, каким из двух способов содержит природа мирового целого благо и наилучшее – как нечто существующее отдельно и само по себе или как порядок» (Metaph., 1075a). Трансцендентность и имманентность, а также их взаимная согласованность соответствуют в данном случае расколу объекта метафизики и попытке удержать связанными воедино две фигуры бытия. Апория, однако же, состоит в том, что порядок (то есть фигура отношения) становится способом, в котором отделенная сущность присутствует и действует в мире. Значимое место онтологии переносится, таким образом, из категории сущности в категорию отношения, притом отношения явно практического плана. Проблема отношения между трансцендентностью и имманентностью блага становится, таким образом, проблемой взаимосвязи между онтологией и праксисом, между бытием Бога и его действием. Тот факт, что это смещение наталкивается на существенные трудности, подтверждается тем, что Аристотель не прямо затрагивает проблему, а просто ссылается на две парадигмы – военную и чисто экономическую. Так же как упорядоченное расположение войск в армии соотносится с распоряжениями предводителя войска, а в случае дома – разные населяющие его существа, каждый следуя своей природе, в действительности сообразуются с неким единым началом, так и отдел?нное сущее сохраняет связь с имманентным порядком вселенной (и наоборот). В любом случае taxis, порядок, представляет собой диспозитив, обеспечивающий возможность сочленения отделенной сущности и бытия, Бога и мира. Taxis дает имя их апоретической связи.
Несмотря на то что у Аристотеля идея провидения совершенно отсутствует и он никоим образом не мог бы помыслить отношение между неподвижным двигателем и вселенной в терминах пронойи, становится понятным, что именно в этом отрывке более поздняя мысль, начиная с Александра Афродисийского, нашла обоснование для теории божественного провидения. Вовсе не задаваясь подобной целью, Аристотель таким образом передал в наследие западной политике парадигму божественного режима мира как двоякую систему, образованную, с одной стороны, трансцендентным архэ, а с другой – имманентной согласованностью действий и вторичных причин.
? Одним из первых, кто связал аристотелевского бога и парадигму Царство/Правление, был Уилл Дюрант: «Бог Аристотеля […] – это roi fainеant, царь-бездельник [a do-nothing king]: он царствует, но не правит» (Durant. P. 82).
? В своем комментарии к книге ? «Метафизики» Аверроэс тонко подметил, что крайним следствием из аристотелевского учения о двух способах, которыми благо существует в мире – как порядок и как начало, благодаря которому порядок существует, – может вытекать гностический дитеизм:
Некоторые утверждают, что нет ничего такого, на что не распространялось бы провидение Божье, ибо Бог ничего не может оставить без своего попечения и не может он совершать зла. Другие же отвергают подобную аргументацию, возражая, что в мире происходит много дурного: Бог не может быть соучастником этого. Некоторые из сторонников такого взгляда дошли до того, что стали утверждать, будто существует два бога: один бог производит зло, а другой бог производит благо.