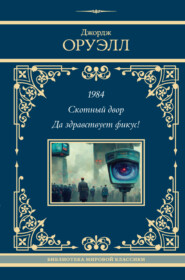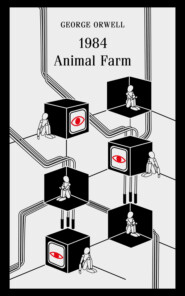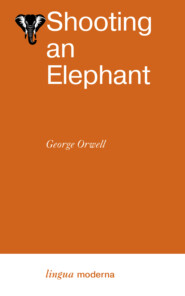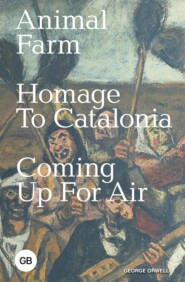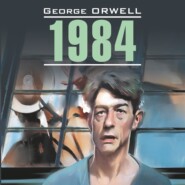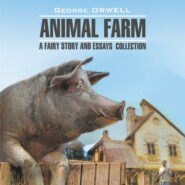По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дочь священника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Они поднялись наверх по узкой шаткой лестнице. В одном месте пришлось сгибаться почти вдвое, чтобы не удариться о нависающий потолок. Свет в спальню проникал через единственное крошечное квадратное окошечко, зажатое в раме обвившим его со стороны улицы плющом, а потому не открывавшееся уже двадцать лет. Огромная кровать, с вечно влажными простынями и скатавшимся матрасом (по количеству бугров и впадин не уступавшему карте рельефа Швейцарии), занимала почти всё пространство комнаты. Не переставая стонать, старая женщина забралась на кровать и улеглась лицом вниз. Вся комната провоняла мочой и лекарствами. Дороти взяла бутылку с растиранием Эллимана и стала тщательно смазывать большие, с набухшими серыми венами, дряблые ноги миссис Пайтер.
На улице, в расплывающемся зное, Дороти села на велосипед и быстро покатила по направлению к дому. Солнце обжигало лицо, но воздух казался сладким и свежим. Она была счастлива. Счастлива! Всегда после того, как утренние «визиты» заканчивались, она была счастлива до неприличия. И странное дело: причину Дороти не осознавала. На лугу молочной фермы Борлейза, по колено в блестящем море травы, бродили рыжие коровы. Запах коров, вобравший в себя аромат ванили и свежего сена, щекотал ноздри Дороти. Несмотря на добрую половину утренней работы, которая ждала её впереди, Дороти не могла не поддаться соблазну и на минутку не задержаться, придерживая одной рукой велосипед у ворот у луга Борлейза, а тем временем корова с влажным носом, похожим на розовую морскую раковину, почёсывала подбородок о заборный столб и задумчиво разглядывала Дороти.
На глаза Дороти попался растущий за забором шиповник, конечно же, без цветов, и она перелезла через ворота посмотреть, шиповник ли это или сорт дикой розы. Дороти встала на колени среди высокой травы у забора. Здесь, близко к земле, было очень жарко. В ушах звучало гудение невидимых насекомых, а горячее летнее дыхание переплетающихся растений плыло в воздухе и обволакивало Дороти. Поблизости росли высокие стебли фенхеля, чьё ветвящееся зеленое убранство напоминало хвосты зеленых морских коньков. Дороти притянула листву фенхеля к лицу и вдохнула его сильный сладкий аромат. Пьянящая сила аромата ошеломила, у неё немного закружилась голова. Она пила аромат, наполняя им лёгкие. Милый, милый запах – запах летних дней, запах радостного детства, запах пропитанными пряностями островов и теплой пены восточных морей.
Внезапная радость переполнила сердце. Эту мистическую радость от красоты мира, от естественной природы всех вещей она воспринимала, возможно, ошибочно, как проявление божественной любви. Стоя вот так на коленях, в этой жаре, одурманенная сладким ароматом трав и сонным жужжанием насекомых, она, казалось, на мгновение услышала величественный гимн восхваления, который непрестанно посылает земля и всё сотворенное на ней самому создателю. Вся растительность, листья, цветы, трава, лучились светом и вибрировали, издавали крик радости. Им вторили жаворонки, целый хор невидимых жаворонков лил с неба свою музыку. Все богатства лета: тепло земли, пение птиц, запах коров, жужжание несметного количества пчёл, – всё это смешивалось и возносилось как дым вечно курящихся алтарей. И значит, с ангелами и архангелами! Дороти начала молиться, и какое-то время молилась горячо и блаженно, забывшись в радостном восхвалении. Ещё минута, и она поняла, что целует веточку фенхеля, которую прижимает к лицу. Она тут же одернула себя и отпрянула назад. Что она делает? Богу ли она поклонялась сейчас, или всего лишь земле? Радость отхлынула от её сердца, а ей на смену пришло холодное, неприятное чувство, будто она только что предавалась экстазу сродни языческому. Она стала корить себя: только не это, Дороти! Никакого обожествления природы, ну, пожалуйста! Отец предостерегал её от обожествления природы! Не одну его проповедь об этом она прослушала. Он говорил, что это чистый пантеизм, и больше всего его оскорбляло то, что эта отвратительная причуда стала модной. Дороти взяла шип дикой розы и три раза воткнула его себе в руку, дабы напомнить себе о том, что у троицы три лица, и только после этого перемахнула через ворота и села на велосипед.
Из-за угла изгороди выкатилась и стала приближаться к ней черная, очень пыльная плоская шляпа с широкими полями.[21 - Такого типа шляпы носили англиканские священники.]
Это был отец МакГуайр, священнослужитель Римской католической церкви, как и Дороти, совершающий свои велосипедные объезды. Очень большой, пухлый мужчина, до того большой, что велосипед под ним казался предназначенным для карликов, он балансировал на его верхушке и походил на мяч для гольфа на Т-образной подставке. Лицо у него было забавное, розовое и немного хитроватое.
Внезапно Дороти изменилась в лице: сейчас она казалась несчастной. Она вдруг вспыхнула, а рука её инстинктивно потянулась поближе к золотому крестику, что висел под платьем у неё на шее. Отец МакГуайр ехал ей навстречу с безмятежным, слегка удивленным видом. Она сделала попытку улыбнуться и с несчастным видом произнесла: «Доброе утро». Но он проехал мимо, никак не отреагировав; взгляд его невозмутимо скользнул по её лицу и проследовал дальше, в пространство, с изумительным притворством демонстрируя, что он её не замечает.
Это было публичное оскорбление. Дороти, которая по своей природе – увы! – была столь далека от публичных оскорблений, села на велосипед и покатила прочь, стараясь побороть в себе далеко не милосердные мысли, которые неизбежно вызывали у неё встречи с отцом МакГуайром. Пять или шесть лет назад, когда отец МакГуайр служил на похоронах на церковном кладбище у храма Св. Этельстана (в Найп-Хилле не было римского католического кладбища), между ним и Пастором разгорелся спор о пристойности, или непристойности, церковной одежды отца МакГуайра, и два священнослужителя непристойно разбранились над не закопанной еще могилой. С тех пор они друг с другом не разговаривали. Так-то и лучше, сказал тогда Пастор.
Что же до прочих священнослужителей в Найп-Хилле, конгрегационалиста мистера Уарда, мистера Фоули, пастора Уэслианской церкви, и крикливого лысого пресвитера, устраивавшего оргии в церква Эбенейзера, – Пастор прямо называл их группой вульгарных диссентеров и запрещал Дороти под страхом лишиться его расположения поддерживать с ними какие бы то ни было отношения.[22 - Диссентеры – протестантские секты, отделившиеся от Англиканской церкви. Конгрегационализм – радикальная ветвь английского кальвинизма, утверждавшая автономию каждой поместной общины (конгрегации). Уэслианин – член Нонконформистской церкви, выросшей из евангелистского движения, начатого Джоном Уэсли.]
§ V
Было двенадцать часов. В большой полуразвалившейся оранжерее, стеклянная крыша которой под воздействием времени и грязи стала такой тусклой и позеленевшей, что, как старое римское стекло, переливалась разными цветами, проходила торопливая и шумная репетиция «Карла I».
Дороти фактически не принимала участия в репетиции – она занималась изготовлением костюмов. Она делала костюмы, или их большую часть, для всех пьес, в которых играли школьники. Режиссура и постановка были в руках Виктора Стоуна, которого Дороти называла церковным учителем. Это был черноволосый молодой человек двадцати семи лет, мелкого телосложения, легковозбудимый, одетый в темную одежду на манер церковнослужащего. В данный момент он, с пачкой манускриптов в руке, отчаянно жестикулировал перед шестью оторопелого вида детьми. На длинной скамье у стены еще четверо детей попеременно тренировали «шумовые эффекты», гремя каминными щипцами, и выясняли отношения над засаленным пакетиком с мятными леденцами, сорок за пенни.
В оранжерее было ужасно жарко; здесь стоял сильный запах клея и кислого детского пота. Стоя на коленях на полу, с кучей булавок во рту и ножницами в руке, Дороти быстро разрезала листы коричневой бумаги на длинные полосы. Рядом с ней на примусе в горшочке закипал клей, а за её спиной, на шатком, заляпанном чернилами рабочем столе рядом с её швейной машинкой, лежала груда сделанных наполовину костюмов, листы коричневой бумаги, мотки бечёвки, кусочки сухого клея, деревянные мечи и открытые баночки с краской. Мысли Дороти наполовину занимали ботфорты семнадцатого века, которые необходим было сделать для Карла Первого и Оливера Кромвеля, а наполовину – злые крики вошедшего в раж Виктора, – обычное для него дело на репетициях. Будучи прирожденным артистом, он тяготился нудной работой – этими репетициями с глупыми детьми. Он расхаживал взад-вперёд, набрасываясь на детей в экспрессивно-грубом стиле. Время от времени он хватал со стола меч и делал выпад то на одного, то на другого.
– Да вдохни же ты в это хоть немного жизни! Что, не можешь? – кричал он, тыкая мечом в мальчика лет одиннадцати с воловьими глазами. – Да не бубни! Вложи хоть какое-то значение в то, что говоришь! Ты похож на труп, который похоронили, а потом опять раскопали. Ничего хорошего не выходит, когда всё это булькает где-то у тебя внутри! Встань прямо и выкрикни всё вот ему! Оставь уже это выражение второго убийцы!
– Подойди сюда, Пёрси! – прокричала Дороти сквозь булавки, – Быстренько!
Она делала доспехи из клея и коричневой бумаги – самая противная работа, если не считать эти несчастные ботфорты. Имея такую большую практику, Дороти из клея и коричневой бумаги могла сделать почти всё. Могла даже сделать довольно сносный, совсем неплохой парик – из коричневой бумажной шапочки и крашеной пакли вместо волос. Год за годом огромное количество времени уходило у неё на сражение с клеем, коричневой бумагой, марлей и прочими атрибутами любительских спектаклей. Церковные фонды хронически нуждались в деньгах, а потому не проходило и месяца, чтобы не устраивали показы то школьных пьес, то представлений, то живых картин, не говоря уж о благотворительных базарах и ярмарках.
И вот Пёрси, маленький кудрявый мальчуган Пёрси Джёвет, сын кузнеца, слез со скамьи и с несчастным видом, непрестанно дёргаясь, стоит перед Дороти, а она, схватив лист коричневой бумаги, прикладывает его, примеряет, вырезает горловину и проймы для рук, и, приложив к его телу, быстро прикалывает булавками, придавая форму нагрудника кирасы.[23 - Кираса – элемент исторического нательного защитного снаряжения, состоящий из грудной и спинной пластин, изогнутых в соответствии с анатомической формой груди и спины человека.]
Виктор: Входи же, входи! Входит Оливер Кромвель – это ты! Думаешь, Оливер Кромвель пресмыкается как собака, выползающая из своего укрытия? Встань прямо! Выпяти грудь! Сделай сердитый взгляд! Так-то оно лучше. А теперь продолжай. Кромвель: «Стоять! У меня в руке пистолет!» Продолжай!
Девочка: Мисс, пожалуйста! Мама велела, чтоб я вам сказала! Мисс…
Дороти: Стой спокойно, Пёрси. Бога ради, постой спокойно!
Кромвель: Штоять! У меня пиштолет в луке!
Маленькая девочка на скамейке: Мистер! Я уронила свою конфетку! (Хнычет) Я уронила конфеткууууу…
Виктор: Нет-нет, Томи! Нет-нет-нет!
Девочка: Пожалуйста, мисс… Мама велела, чтоб я вам сказала! Иначе она не купит мне брючки, как обещала, мисс, потому что…
Дороти: Если ты ещё раз так сделаешь, я проглочу булавку!
Кромвель: Стоять! У меня пистолет…
Маленькая девочка (в слезах): «Моя конфеткааааа…
Дороти схватила кисть для клея и с лихорадочной быстротой стала намазывать все бумажные полоски на груди Пёрси: сверху донизу, туда-сюда, одна на другую, останавливаясь только когда бумага прилипала к пальцам. Через пять минут из коричневой бумаги и клея она соорудила кирасу настолько прочную, что в сухом состоянии та могла противостоять настоящим ударам меча. Пёрси, «закованный с головы до ног в броню», которая своим острым бумажным краем резала ему подбородок, смотрел на себя сверху вниз с несчастным смиренным выражением принимающего ванну пса. Взяв ножницы, Дороти сделала разрез на доспехах с одной стороны, поставила их набок сохнуть, а сама немедленно принялась за другого ребёнка. Тут разразился страшный грохот из группы «шумовых эффектов», начавшей практиковать пистолетные выстрелы и галоп лошадей. Пальцы Дороти слипались все сильнее и сильнее, но она время от времени споласкивала их от клея в ведерке с горячей водой, которое держала наготове. Через двадцать минут еще три кирасы были почти готовы. Оставалось только покрыть их алюминиевой краской и приделать шнуровку по бокам. После этого нужно еще соорудить набедренники и, что хуже всего, соответствующие шлемы. Виктор, жестикулируя и перекрывая грохот галопирующих коней, попеременно перевоплощался в Оливера Кромвеля, Карла Первого, пуритан, кавалерию, крестьян и придворных дам. Дети уже начинали капризничать, зевать, похныкивать и обмениваться чувствительными пинками и щипками. Отложив на минутку доспехи, Дороти смела со стола мусор и выдвинула швейную машинку, чтобы приступить к работе над зелеными бархатными камзолами для кавалерии. В работу пошла выкрашенная в зеленый цвет марля – на расстоянии выглядело довольно нормально.
Ещё десять минут лихорадочной работы. У Дороти порвалась нитка. «Черт», – чуть было не вылетело у неё, но она вовремя себя одёрнула и поспешно вставила другую. Дороти старалась обогнать время. До постановки оставалось всего две недели, а ещё так много не сделано! Впереди шлемы, камзолы, мечи, ботфорты (эти несчастные ботфорты преследовали её последнее время по ночам), ножны, оборки, парики, шпоры, декорации – стоило только об этом подумать, как ей становилось дурно. Родители детей никогда не помогали с костюмами для детских постановок. Точнее, они всегда обещали помочь, а потом отказывались. У Дороти дьявольски разболелась голова – отчасти из-за жары в оранжерее, отчасти от напряжения, вызванного одновременным шитьем камзолов и попытками создать воображаемые варианты ботфортов из коричневой бумаги. На какой-то миг даже мысль о счёте в двадцать два фунта семь шиллингов и девять пенсов у Каргилла вылетела у неё из головы. Она не могла думать ни о чём, кроме страшных гор не сшитой одежды, поджидающих её впереди. Вот так проходил её день. На неё наваливалась одна проблема за другой, будь то костюмы для школьной постановки или проваливающиеся полы колокольни, долги в магазинах или заросший вьюнками горох, – и каждая из этих проблем такая неотложная, такая неотвязная, что все остальные отходили на задний план.
Виктор бросил деревянный меч, достал часы и посмотрел на них.
– Хватит! – сказал он резким безжалостным тоном. Он всегда так разговаривал с детьми. – Продолжим в пятницу. Освободить помещение! Всем! Меня уже тошнит от одного вашего вида.
Виктор проводил детей взглядом и забыл об их существовании в тот же миг, как они скрылись из виду. Он тут же достал из кармана листок с нотами и начал нервно похаживать взад-вперед, косо поглядывая на два заброшенных растения в углу, на их мертвые коричневые отростки, свесившиеся через края горшков. Дороти, склонившись над машинкой, всё еще выводила швы на бархатных камзолах.
Виктор, это неугомонное, умное маленькое создание, был счастлив только когда ссорился с кем-либо по какому-либо поводу. На его бледном лице с правильными чертами застыло выражение, которое могло показаться выражением неудовлетворенности, хотя на самом деле то была мальчишеская горячность. Люди, встречавшие его впервые, обычно говорили, что он растрачивает свои таланты на неблагодарной работе деревенского школьного учителя. Однако правда состояла в том, что у Виктора не было никаких особенных талантов, за исключением незначительных музыкальных способностей и более ярко выраженного дара общения с детьми. Не преуспевший на других поприщах, он отлично справлялся с детьми: относился к ним надлежащим образом – безжалостно. Несомненно, как и многие другие, он презирал этот свой особый талант. Его интересы были исключительно в сфере церковной. Он был, что называется церковный молодой человек. Он всегда жаждал вступить в лоно Церкви, стать священнослужителем, что он непременно бы сделал, если б обладал головой, способной выучить греческий и иврит. Не допущенный в духовенство, он, естественным образом, занял должность учителя и органиста при церкви. Это позволяло ему оставаться, если так можно выразиться, в пределах церкви. Легко догадаться, что он был англо-католиком, самой воинственной породы в «Чёч Таймсе»: клерикальнее представителей духовенства, знаток истории Церкви, эксперт по одежде священнослужителей, готовый в любой момент разразиться гневной тирадой в адрес модернистов, протестантов, учёных, большевиков и атеистов.
– Я тут всё думала, – сказала Дороти, остановив машинку и отрезав нитку, – что, если мы сможем достать достаточное количество старых шляп-котелков, можно было бы сделать из них шлемы. Отрезать поля, наклеить бумагу нужной формы и покрыть всё серебряной краской.
– О, Боже! Зачем забивать голову такими вещами? – воскликнул Виктор, потерявший интерес к постановке, как только закончилась репетиция.
– Но больше всего меня беспокоят эти несчастные ботфорты! – продолжала Дороти, разложив на коленях камзол и разглядывая его.
– Ах, забудьте уже о ботфортах! Отставим пьесу хоть на время. Посмотрите сюда! – сказал Виктор, разворачивая страницу с нотами. – Я хочу, чтобы вы поговорили с отцом, замолвили за меня слово. Спросите у него, можно ли нам устроить процессию в следующем месяце.
– Ещё одну процессию? Зачем?
– Ну, я не знаю… Всегда можно найти повод для религиозной процессии. Восьмого числа – Р. Д. М. – я бы сказал, очень подходит для процессии.[24 - Р.Д.М. – Рождество Девы Марии.] Всё сделаем в стиле. У меня есть восторженный гимн – великолепный! Они его промычат. А в церкви Св. Видекинда в Миллборо можно позаимствовать синюю хоругвь с изображением Девы Марии. Одно его слово – и я сразу начну репетировать гимн.
– Вы же знаете, он скажет «нет», – ответила Дороти, вставляя нитку в иголку, чтобы пришить пуговицы к камзолу. – На самом деле он не одобряет процессий. Лучше уж его не просить и не злить.
– Чёрт возьми! – воскликнул Виктор. – Уж не один месяц прошел, как у нас не было процессий. А какие мертвенно-скучные службы здесь проходят! Я таких никогда не видывал. Посмотришь на нас, так можно подумать, что мы какой-нибудь баптистский молельный дом, или что-то в этом роде!
Виктор беспрестанно раздражался из-за той нудной правильности, с какой Пастор проводил службу. Его идеалом было, говоря его словами, «подлинное католическое богослужение», что означало бесчисленные курящиеся фимиамы, позолоченные образы, римские облачения. Как органист, он всегда был за многочисленные церковные процессии, чувственную музыку, изысканное пение во время литургии, поэтому они, каждый со своей стороны – и он, и Пастор – считали, что другой лезет не в своё дело. И в данном споре Дороти была на стороне отца. Будучи воспитана в сдержанном духе via media англиканства, она отвергала и даже отчасти побаивалась всего «ритуалистического».[25 - Via media (лат.) – посередине. В философии обозначает умеренность во всём: и в мыслях, и в поступках.]
– Да чёрт возьми! – продолжал своё Виктор. – Процессия, это ж так весело! Все идут по этому проходу, а потом через западную дверь, и обратно, через южную дверь. А сзади – хор со свечами и бойскауты впереди с хоругвью. Замечательно бы смотрелось. Приветствую тебя, благословенный день торжества! Искусство прославляет тебя навеки… – пропел он тонким, но не лишенным мелодичности голосом. – А будь моя воля, – добавил он, – я бы еще в это же время поставил парочку мальчиков размахивать веселенькими кадильцами с благовониями.
– Я понимаю. Но вы же знаете, как отец не любит подобные вещи. Особенно когда всё это связано с Девой Марией. Он говорит, что это – римские излишества, и ведут они к тому, что люди крестятся и становятся на колени не вовремя, и Бог знает что еще. Вы ведь помните, что случилось во время Рождественского поста?
В прошлом году Виктор, под свою ответственность, выбрал один из Рождественских гимнов (номер 642), в котором рефреном повторялась: «Славься Мария, славься Мария, славься Мария и милосердие твоё». Такие «папистские» строчки привели Пастора в ярость. В конце первого стиха он демонстративно отложил книгу гимнов, развернулся на своей кафедре лицом к прихожанам и стоял, глядя на них с таким каменным лицом, что мальчики певчие сбились и едва не попадали в обморок. Потом он говорил, что, заслышав эти выкрики деревенщины «Славься Мария», он подумал, что попал в пивной бар «Пёс и бутылка».
– Чёрт возьми! – сказал Виктор обиженным голосом. – Когда я пытаюсь вдохнуть хоть каплю жизни в церковную службу, ваш отец вечно всё растопчет. Он не разрешает нам ни благовония, ни приличной музыки, ни надлежащей одежды – ничего! И каков результат? Мы не можем заполнить церковь людьми и на четверть даже в Пасхальное Воскресенье. Да и в обычный воскресный день оглядитесь вокруг: приходят только бойскауты да гёрлскауты, да несколько старушек.
– Я знаю. Это ужасно, – признала Дороти, пришивая пуговицу. – И кажется, это не зависит от наших действий. Мы никак не можем сделать, чтобы люди шли в церковь. Но все же они приходят к нам венчаться, хоронить… Не думаю, что в этом году работа в нашей конгрегации пошла на спад. На Пасху пришли почти двести человек.
– Двести! А должно быть две тысячи! Всё население этого города. Дело в том, что три четверти населения этих мест никогда и близко к церкви не подходят. Церковь утратила своё влияние над людьми. Они не знают, что она вообще существует. А всё почему? Вот к чему я веду. Почему?
– Думаю, это все из-за науки, свободомыслия, ну и всего такого, – довольно назидательно заявила Дороти, цитируя своего отца.
Это замечание увело Виктора в сторону от того, что он хотел сказать. Перед этим он собирался заявить, что конгрегация Св. Этельстана приходит в упадок из-за занудства церковной службы, однако ненависть к словам «наука» и «свободомыслие» направили его совсем по другому руслу.