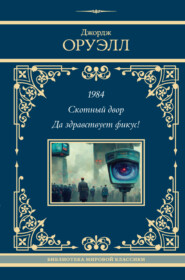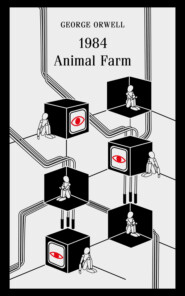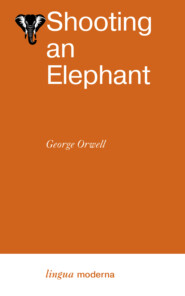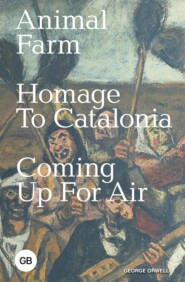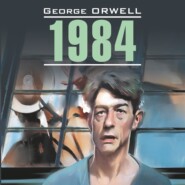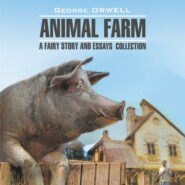По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
1984
Автор
Год написания книги
1949
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А теперь посмотрим, кто у нас сумеет дотянуться до носков! – произнесла она с энтузиазмом. – Пожалуйста, товарищи, тянемся от бедра. Раз-два! Раз-два!..
Уинстон терпеть не мог это упражнение – оно прошивало ноги болью от пяток до ягодиц и часто заканчивалось очередным приступом кашля. Его размышления лишились условной приятности. Прошлое, рассудил он, не просто изменили, его, по сути, уничтожили. Разве можно установить точно хотя бы самый очевидный факт, когда его не подтверждает ничего, кроме твоей памяти? Он попытался вспомнить, в каком году впервые услышал что-либо о Большом Брате. Предположительно где-то в шестидесятые, но нельзя было сказать наверняка. Разумеется, в истории Партии Большой Брат фигурировал как вождь и поборник Революции с первых ее дней. Подвиги его постепенно отодвигались в прошлое, пока не достигли легендарного мира сороковых и тридцатых годов, когда капиталисты в странных шляпах-цилиндрах еще разъезжали по улицам Лондона в огромных блестящих автомобилях или в остекленных каретах. Невозможно установить, что из этих легенд было правдой, а что – выдумкой. Уинстон не мог даже вспомнить дату возникновения самой Партии. Он полагал, что не слышал слова Ангсоц до 1960-го, но возможно, что в своей староязычной форме – то есть «английский социализм» – оно было в ходу и раньше. Все растворялось в тумане. Хотя иногда можно было уличить и явную ложь. К примеру, согласно партийным учебникам истории, Партия изобрела самолет, но это было неправдой. Он помнил самолеты с самого раннего детства. Но доказать ничего было нельзя. Не было никаких свидетельств. Лишь один раз за всю свою жизнь он держал в руках неопровержимое свидетельство фальсификации исторического факта. И на этот счет…
– Смит! – прокричал злобный голос с телеэкрана. – У. Смит, номер 6079! Да, вы! Пожалуйста, нагибайтесь ниже! Вы же можете. Вы не стараетесь. Ниже, пожалуйста! Так-то лучше, товарищ. Теперь вольно, вся группа, и наблюдайте за мной.
Вдруг Уинстона прошиб горячий пот по всему телу. Лицо его, однако, осталось совершенно невозмутимым. Не показывать тревоги! Не показывать недовольства! Одно движение глаз может выдать тебя. Он стоял и смотрел, как инструкторша поднимает руки над головой, нагибается и – не сказать что грациозно, но с похвальной четкостью и сноровкой – запихивает кончики пальцев рук под пальцы ног.
– Так-то, товарищи! Вот что я хочу от вас увидеть. Посмотрите еще раз. Мне тридцать девять, и я родила четырех детей. Теперь смотрите. – Она снова нагнулась. – Видите, мои колени не сгибаются. Вы все так сможете, если захотите, – добавила она, распрямившись. – Каждый до сорока пяти прекрасно способен коснуться своих пальцев ног. Не всем нам повезло сражаться на передовой, но все мы можем хотя бы поддерживать себя в форме. Вспомните наших ребят на Малабарском фронте! И моряков на Плавучей крепости! Только подумайте, каково приходится им. Теперь попробуем еще раз. Так-то лучше, товарищ, так гораздо лучше, – добавила она ободряюще, когда Уинстон отчаянным выпадом сумел коснуться пальцев ног, не сгибая коленей, впервые за несколько лет.
IV
Уинстон не сдержал глубокого безотчетного вздоха, несмотря на близость телеэкрана, и начал рабочий день: подтянул поближе речепис, сдул пыль с микрофона и надел очки. Затем развернул и скрепил вместе четыре бумажных рулончика, выскочивших из пневматической трубки справа от стола.
В стенах кабинки было три отверстия. Справа от речеписа находилась пневматическая трубка для письменных сообщений, слева – труба побольше для газет; а в боковой стене – только руку протяни – широкий овальный паз с проволочной заслонкой. Он служил для избавления от ненужных бумаг. Таких пазов в здании были тысячи, десятки тысяч – не только в каждой комнате, но и по несколько в каждом коридоре. Их почему-то прозвали провалами памяти. Когда надо было избавиться от документа или даже бумажки на полу, человек машинально поднимал заслонку ближайшего «провала памяти» и бросал туда ненужную бумагу, которую подхватывал поток теплого воздуха и уносил в огромные печи, скрытые где-то в недрах здания.
Уинстон развернул и изучил четыре бумаги. На каждой напечатано сообщение в одну-две строчки на телеграфном жаргоне, предназначавшемся в министерстве для внутренних нужд, – не совсем новояз, но по большей части из слов новояза. Он прочитал:
таймс 17.3.84 речь бб невер африка уточ
таймс 19.12.83 прогноз 4 кварт 3 гплан 83 опечат соглас текущ номер
таймс 14.2.84 минизоб цит невер шоколад уточ
таймс 3.12.83 отчет прикпостр бб дубльплюснехор ссыл нелицо перепис всецело покнач доподшив
С чувством предвкушения Уинстон отложил в сторону четвертое сообщение. Запутанная и ответственная работа, которую лучше оставить напоследок. Три других задания были рядовыми, хотя со вторым, вероятно, потребуется нудно копаться в цифрах.
Уинстон набрал на телеэкране «задние числа», запросил нужные номера «Таймс» – и через несколько минут они выскользнули из пневматической трубы. Телеграфные сообщения ссылались на статьи или новости, которые по той или иной причине требовалось изменить, или, выражаясь официальным языком, уточнить. Например, из «Таймс» от семнадцатого марта следовало, что Большой Брат в речи накануне предрек затишье на южноиндийском фронте и скорое наступление евразийских агрессоров в Северной Африке. На самом же деле евразийское высшее командование решило наступать в Южной Индии, оставив в покое Северную Африку. Поэтому нужно было так переписать абзац в речи Большого Брата, чтобы он как будто предсказал реальные события. Или, опять же, «Таймс» опубликовала от девятнадцатого декабря официальный прогноз выпуска потребительских товаров в третьем квартале 1983 года, то есть в шестом квартале Девятой Трехлетки. Сегодняшний номер приводил реальные показатели выпуска, из которых следовало, что прогнозы оказались совершенно неверны. Задачей Уинстона было уточнить исходные цифры и привести их к единству с последующими. Что же касалось третьего сообщения, то оно ссылалось на элементарную ошибку, которую легко исправить за пару минут. Не далее как в феврале Министерство изобилия пообещало («категорически утверждало», по официальному выражению), что сокращения рациона шоколада в течение 1984 года не будет. В действительности, как было известно Уинстону, рацион шоколада урежут с тридцати до двадцати граммов к концу текущей недели. Всего-то и дел – заменить исходное обещание предупреждением о вероятном сокращении пайка где-нибудь в апреле.
Как только Уинстон разделался со всеми сообщениями, он приколол речеписные исправления к соответствующим номерам «Таймс» и опустил их в пневматическую трубу. После чего одним движением, доведенным почти до полного автоматизма, скомкал черновики и исходные сообщения и бросил их в провал памяти, на корм огню.
Что происходило в невидимом лабиринте, к которому вели пневматические трубы, Уинстон в точности не знал, но мог представить в общих чертах. Как только соберут и сверят все поправки для того или иного номера «Таймс», эти номера перепечатают, а исходные – уничтожат, и исправленные экземпляры займут их место в подшивке. Процесс постоянного изменения применялся не только к газетам, но и к книгам, журналам, брошюрам, плакатам, листовкам, фильмам, звукозаписям, карикатурам, фотографиям – ко всему художественному и документальному, что могло иметь любую политическую или идеологическую значимость. Ежедневно и чуть ли ни ежеминутно прошлое подгонялось к настоящему. Сейчас верность любого прогноза Партии можно было подтвердить документальным свидетельством, и не оставалось ни единой заметки, ни единого мнения, противоречащих нуждам текущего момента. Вся история превратилась в палимпсест [2 - Палимпсест (греч. – palipmpseston – вновь соскобленный) – рукопись, написанная на пергаменте, уже бывшем в подобном употреблении.], выскобленный дочиста и переписанный заново столько раз, сколько было нужно. Как только работа завершалась, не оставалось никаких доказательств какой-либо фальсификации. Крупнейшая секция Отдела документации (намного больше той, где работал Уинстон) состояла из людей, которые только тем и занимались, что искали, изымали и уничтожали все экземпляры книг, газет и прочей печатной продукции, подвергшейся исправлениям. Номер «Таймс» могли перепечатать десяток раз вследствие изменений политического курса или ошибочных пророчеств Большого Брата, а он по-прежнему оставался в подшивке под исходной датой, и не существовало ни единого противоречащего ему экземпляра. Книги также отзывали и переписывали раз за разом, в итоге печатая заново без какого-либо указания о внесенных правках. Даже в письменных указаниях, которые Уинстон получал и сразу после исполнения уничтожал, никогда не утверждалось, хотя бы косвенно, что следует совершить подлог – речь всегда шла об описках, ошибках, опечатках или неверных цитатах, которые необходимо исправить в интересах точности.
Но в действительности, рассуждал Уинстон, заменяя показатели Министерства изобилия, это даже не подлог. Это всего лишь нагромождение одной ахинеи на другую. Большая часть материалов, с которыми приходилось работать, не имела ни малейшего отношения к реальному миру, хотя даже откровенная ложь обычно с ним связана. Статистика в исходной версии оставалась такой же фантазией, как и в исправленной. Постоянно приходилось брать данные просто с потолка. Например, Министерство изобилия прогнозировало выпуск ста сорока пяти миллионов пар обуви в текущем квартале. Реальная цифра составила шестьдесят два миллиона. Уинстон переписывал первоначальный прогноз на пятьдесят семь миллионов, чтобы оправдать непременное заявление о перевыполнении плана. В любом случае шестьдесят два миллиона были не ближе к реальности, чем пятьдесят семь или сто сорок пять миллионов. Весьма вероятно, что никакой обуви не было вообще. А еще вероятнее, что никто ничего конкретного об этом не знал и знать не желал. Все знали только, что по бумагам ежеквартально выпускались астрономические объемы обуви, тогда как чуть ли не половина населения Океании ходила босиком. Так же обстояло дело с любыми учетными данными, большими и малыми. Все растворялось в мире теней. В итоге невозможно было установить даже год того или иного события.
Уинстон кинул взгляд через зал. В кабинке у противоположной стены усердно трудился Тиллотсон, аккуратный человечек с небритым подбородком: на коленях у него лежала сложенная газета, рот прижат к микрофону речеписа. Было заметно, что он пытается сохранить каждое слово в тайне между собой и телеэкраном. Он поднял голову, и его очки враждебно сверкнули в сторону Уинстона.
Уинстон едва знал Тиллотсона и не имел представления о его служебных обязанностях. Люди в Отделе документации не любили говорить о своей работе. В этом длинном зале без окон, с двумя рядами кабинок, неумолкаемым шелестом бумаг и гудением голосов над речеписами трудилось не меньше десятка людей, которых Уинстон не знал даже по имени, хотя ежедневно видел, как они снуют туда-сюда по коридорам или машут руками на Двухминутках Ненависти. Он знал, что в соседней кабинке маленькая женщина с рыжеватыми волосами дни напролет выискивает и удаляет из печатных изданий имена людей, которых испарили, а стало быть, признали несуществующими. Она определенно занималась своим делом, поскольку ее собственного мужа испарили пару лет назад. А еще через несколько кабинок сидело кроткое, нескладное, витающее в облаках создание по фамилии Эмплфорт, с очень волосатыми ушами и удивительным талантом жонглировать рифмами и размерами. Его работа состояла в переделке стихотворений (это называлось «создание канонических версий»), которые признали идеологически вредными, но по тем или иным причинам их нужно было оставить в антологиях. А ведь этот зал с полусотней служащих был лишь подсекцией – по существу, одной ячейкой – огромного и сложного Отдела документации. За ним, над ним, под ним располагались сонмы работников с самыми невообразимыми задачами. Имелись огромные типографии со своими редакторами, полиграфистами и прекрасно оборудованными студиями для подделки фотографий. Имелась секция телепередач со своими инженерами, продюсерами и актерскими труппами, специально подобранными за умение имитировать голоса. Имелись армии секретарей, которые только и делали, что составляли списки книг и периодических изданий, требующих ревизии. Имелись необъятные хранилища для переделанных документов и скрытые печи для уничтожения исходных версий. А где-то находились анонимные руководящие мозги, которые координировали всю эту деятельность и прокладывали политические курсы. В соответствии с ними одни события прошлого надлежало сохранить, другие – фальсифицировать, а третьи – вычеркнуть из истории.
Отдел документации, по большому счету, являлся всего лишь филиалом Министерства правды, главная задача которого состояла не в переделке прошлого, а в снабжении граждан Океании газетами, фильмами, учебниками, телепередачами, пьесами, романами – всеми мыслимыми видами информации, прикладной или развлекательной: от закона до лозунга, от лирического стихотворения до биологического трактата, от детского букваря до словаря новояза. А министерство должно было не только удовлетворять разнообразные нужды Партии, но и дублировать всю свою деятельность на более низком уровне для пролетариев. Существовал целый ряд специальных отделов, занимавшихся пролетарской литературой, музыкой, драмой и досугом в целом. Здесь выпускались газетенки, освещавшие только спорт, криминал и астрологию, бульварные романчики по пять центов, скабрезные фильмы и сентиментальные песенки, сочинявшиеся исключительно механическим способом – посредством особого барабана под названием «версификатор». Была даже целая подсекция по производству самой низкопробной порнографии (порносек на новоязе), которую рассылали в запечатанных пакетах – ни один член Партии кроме непосредственных изготовителей, не имел права ее видеть.
Пока Уинстон работал, из пневматической трубки выскользнули еще три сообщения. Простые задания, и он успел разделаться с ними до начала Двухминутки Ненависти. После Ненависти он вернулся в кабинку, снял с полки словарь новояза, отодвинул в сторону речепис, протер очки и взялся за главное задание этого утра.
Ничто в жизни Уинстона не доставляло ему такой радости, как работа. Пусть она в основном состояла из серой рутины, но иногда попадались настолько сложные и запутанные поручения, что можно было погрузиться в них с головой, как в решение математической задачи – настолько тонкие подтасовки, что единственным руководством в них становилось только знание принципов Ангсоца и собственное понимание того, что же Партия желает от тебя услышать. Уинстон знал толк в таких делах. Случалось, ему даже доверяли уточнять передовицы «Таймс», написанные полностью на новоязе. Он развернул сообщение, которое отложил в самом начале работы, и перечитал его:
таймс 3.12.83 отчет прикпостр бб дубльплюснехор ссыл нелица перепис всецело покнач доподшив
На староязе (или обычном английском) это могло означать:
Приказ Большого Брата по стране, напечатанный в «Таймс» от 3 декабря 1983 года, изложен крайне неудовлетворительно и ссылается на несуществующих лиц. Полностью перепишите его и представьте свой вариант вышестоящему начальству перед отправкой в архив.
Уинстон прочитал неугодную статью. Кажется, приказ Большого Брата по стране по большей части хвалил организацию, известную как ПКПП. Она снабжала сигаретами и прочими предметами потребления матросов Плавучей крепости. Особо отметили некоего товарища Уизерса, выдающегося члена Внутренней Партии, – он удостоился отдельного упоминания и получил Орден второй степени за выдающиеся заслуги.
Три месяца спустя ПКПП внезапно расформировали без объяснения причин. Напрашивалось предположение, что Уизерс с сотрудниками впали в немилость, однако ни в печати, ни на телеэкране об этом ничего не говорили. Неудивительно, поскольку устраивать судебный процесс или хотя бы публично разоблачать политических преступников было не принято. Большие чистки на тысячи человек с открытыми процессами по предателям и мыслефелонам, которые смиренно каялись перед казнью, представляли собой особые постановки и проводились с интервалом в пару лет. Как правило, ставшие неугодными Партии люди исчезали бесследно. И никто не имел ни малейшего представления, что с ними случилось. Нельзя было даже считать их умершими. Помимо своих родителей, Уинстон лично знал около тридцати человек, которые в какой-то момент просто исчезли.
Уинстон мягко почесал нос скрепкой. В кабинке напротив товарищ Тиллотсон все так же скрытно нависал над речеписом. Поднял голову на миг – и вновь враждебно блеснули очки. Уинстон подумал, что товарищ Тиллотсон, вполне возможно, выполняет то же самое задание. Почему бы нет? Такую тонкую работу ни за что бы не доверили одному человеку; с другой стороны, если созывать для этого комиссию, пришлось бы открыто признать фальсификацию. Очень может быть, что сейчас с десяток человек составляют свои версии слов Большого Брата. А потом какой-нибудь начальственный ум во Внутренней Партии выберет из них одну, подредактирует и запустит сложный процесс проставления перекрестных ссылок, после чего избранная ложь будет окончательно отправлена в архив и сделается правдой.
Уинстон не знал, в чем провинился Уизерс. Возможно, дело было в коррупции или некомпетентности. Возможно, Большой Брат решил избавиться от подчиненного, ставшего не-в-меру-популярным. Возможно, Уизерса или кого-то из его окружения заподозрили в уклонизме. А возможно – и вероятнее всего – это случилось из-за самих принципов работы государственной машины, которой чистки и испарения были просто необходимы. Единственный определенный намек содержался в словах «ссыл нелица». Они означали, что Уизерс уже мертв. Не всегда при арестах можно было сказать такое с уверенностью. Иногда людей выпускали и давали пожить на свободе год-другой перед казнью. Изредка даже случалось, что кто-то, кого ты давно считал мертвым, возникал вдруг, точно призрак, на каком-нибудь открытом процессе и давал показания против сотен человек, после чего исчезал уже навсегда. Однако Уизерс уже был нелицом. Его не существовало, причем – никогда. Уинстон решил, что недостаточно просто изменить направление мыслей Большого Брата. Лучше написать о чем-то совершенно не связанном с исходной темой.
Можно свести все к обычному разоблачению предателей и мыслефелонов, но это было бы слишком прозрачно; с другой стороны, если выдумать победу на фронте или триумфальное перевыполнение Девятой Трехлетки, то это повлечет за собой лишнюю мороку с переписыванием документов. Здесь требовалась чистая фантазия. И вдруг в памяти у Уинстона всплыл – можно сказать, готовым к употреблению – образ некоего товарища Огилви, недавно павшего в бою смертью храбрых. Бывали случаи, когда Большой Брат посвящал целый приказ по стране памяти какого-нибудь скромного рядового члена Партии, жизнь и смерть которого могли служить достойным примером. Что ж, на этот раз он почтит память товарища Огилви. Правда, никакого товарища Огилви никогда не существовало, но несколько печатных строк и пара липовых фотографий решат эту задачу.
Подумав секунду, Уинстон притянул к себе речепис и начал диктовать в привычной манере Большого Брата. Манера эта, одновременно военная и педантичная, легко имитировалась одним характерным приемом: нужно было задавать вопросы и тут же на них отвечать («Какой же урок извлечем мы из этого факта, товарищи? А урок – и вместе с тем один из базовых принципов Ангсоца – таков…» и т. д. и т. п.).
В возрасте трех лет товарищ Огилви отказался от всех игрушек, кроме барабана, автомата и вертолета. В шесть – на год раньше, в виде особого исключения – его приняли в Разведчики, а в девять он уже был командиром отряда. В одиннадцать, подслушав дядин разговор, он уловил в нем преступные тенденции и донес в Мыслеполицию. В семнадцать он стал районным руководителем молодежной лиги Антисекс. В девятнадцать изобрел ручную гранату, которую приняли на вооружение в Министерстве мира, и на первом же испытании она разнесла в клочья тридцать одного евразийского военнопленного. В двадцать три года товарищ Огилви погиб, выполняя свой долг. Пролетая над Индийским океаном с важными донесениями, он попал под атаку вражеских истребителей, привязал к себе пулемет, как грузило, и выпрыгнул из вертолета в глубокие воды со всеми секретными документами. О такой кончине, сказал Большой Брат, нельзя говорить без зависти. Затем Большой Брат добавил несколько замечаний о жизни товарища Огилви в целом, которая была отмечена чистотой и целеустремленностью. Он не пил, не курил и не знал иного досуга, кроме ежедневного часа в спортзале. Решив, что женитьба и забота о семье несовместимы с круглосуточным служением долгу, товарищ Огилви дал обет безбрачия. Он не вел никаких разговоров, кроме как о принципах Ангсоца, и не имел иной цели в жизни, кроме победы над евразийским врагом и разоблачения шпионов, вредителей, мыслефелонов и прочих предателей.
Уинстон подумал было наградить товарища Огилви орденом за выдающиеся заслуги, но потом решил, что это будет лишним и повлечет за собой ненужные перекрестные ссылки и исправления.
Он снова взглянул на соперника в кабинке напротив. Что-то подсказывало ему, что Тиллитсон трудился над тем же заданием. Неизвестно, чью работу в итоге примут, но Уинстон был уверен в своем варианте. Невообразимый еще час назад товарищ Огилви вошел в реальность. Уинстон вдруг поразился, что можно создавать умерших, но не живых. Товарищ Огилви никогда не существовал в настоящем времени, но теперь существует в прошлом, и как только факт подлога забудется, Огилви станет столь же несомненной и неопровержимой фигурой, как Карл Великий или Юлий Цезарь.
V
В столовой с низким потолком, глубоко под землей, очередь за обедом двигалась рывками. Было полно народу и очень шумно. От жаровни за стойкой валил мясной пар с кислым металлическим душком, но все перебивал запах джина «Победа». В дальнем конце зала обустроили маленький бар, больше похожий на дыру в стене, где разливали джин по десять центов за шкалик.
– Вот кого я искал, – произнес кто-то за спиной Уинстона.
Он обернулся. Это был его приятель Сайм из Исследовательского отдела. Пожалуй, «приятель» – не совсем верное слово. Сейчас нет никаких приятелей, только товарищи, но с определенными товарищами приятней делить компанию, чем с другими. Сайм был филологом, специалистом по новоязу. Он работал в составе огромной экспертной группы, корпевшей над одиннадцатым изданием словаря новояза. Сайм был совсем мелким, мельче Уинстона, с темными волосами и большими глазами навыкате, скорбно-насмешливыми, словно обыскивавшими лицо собеседника.
– Хотел спросить, не осталось у тебя лезвий? – осведомился он.
– Ни одного! – ответил Уинстон с какой-то виноватой поспешностью. – Сам везде искал. Их больше нет.
Все спрашивали про лезвия. Вообще-то у него лежали еще два нетронутых про запас. Последние месяцы с лезвиями была беда. В партийных магазинах постоянно пропадал то один, то другой товар первой необходимости: то пуговицы, то нитки, то шнурки; теперь вот – лезвия. Их можно было раздобыть только украдкой на «свободном» рынке, если повезет.
– Бреюсь одним уже полтора месяца, – соврал Уинстон.
Очередь продвинулась еще на шаг. Он остановился, вновь обернулся и взглянул на Сайма. Оба взяли засаленные металлические подносы из стопки с краю стойки.
– Ходил вчера смотреть, как вешают пленных? – спросил Сайм.
– Я работал, – равнодушно ответил Уинстон. – Увижу, наверное, в кино.
– Весьма неравноценная замена, – заявил Сайм.
Его насмешливый взгляд шарил по лицу Уинстона.
«Знаю я тебя, – словно говорил этот взгляд, – насквозь вижу. Я прекрасно знаю, почему ты не ходил смотреть, как вешают пленных».
Сайм, как интеллектуал, был язвительно правоверен. Он со злорадством говорил о вертолетных атаках на вражеские деревни, о процессах и признаниях мыслефелонов, о казнях в подвалах Министерства любви. В беседах приходилось все время уводить его от этих тем и по возможности переводить разговор на технические тонкости новояза, о которых он рассказывал интересно и со знанием дела. Уинстон слегка повернулся, уклоняясь от испытующего взгляда больших темных глаз.
Уинстон терпеть не мог это упражнение – оно прошивало ноги болью от пяток до ягодиц и часто заканчивалось очередным приступом кашля. Его размышления лишились условной приятности. Прошлое, рассудил он, не просто изменили, его, по сути, уничтожили. Разве можно установить точно хотя бы самый очевидный факт, когда его не подтверждает ничего, кроме твоей памяти? Он попытался вспомнить, в каком году впервые услышал что-либо о Большом Брате. Предположительно где-то в шестидесятые, но нельзя было сказать наверняка. Разумеется, в истории Партии Большой Брат фигурировал как вождь и поборник Революции с первых ее дней. Подвиги его постепенно отодвигались в прошлое, пока не достигли легендарного мира сороковых и тридцатых годов, когда капиталисты в странных шляпах-цилиндрах еще разъезжали по улицам Лондона в огромных блестящих автомобилях или в остекленных каретах. Невозможно установить, что из этих легенд было правдой, а что – выдумкой. Уинстон не мог даже вспомнить дату возникновения самой Партии. Он полагал, что не слышал слова Ангсоц до 1960-го, но возможно, что в своей староязычной форме – то есть «английский социализм» – оно было в ходу и раньше. Все растворялось в тумане. Хотя иногда можно было уличить и явную ложь. К примеру, согласно партийным учебникам истории, Партия изобрела самолет, но это было неправдой. Он помнил самолеты с самого раннего детства. Но доказать ничего было нельзя. Не было никаких свидетельств. Лишь один раз за всю свою жизнь он держал в руках неопровержимое свидетельство фальсификации исторического факта. И на этот счет…
– Смит! – прокричал злобный голос с телеэкрана. – У. Смит, номер 6079! Да, вы! Пожалуйста, нагибайтесь ниже! Вы же можете. Вы не стараетесь. Ниже, пожалуйста! Так-то лучше, товарищ. Теперь вольно, вся группа, и наблюдайте за мной.
Вдруг Уинстона прошиб горячий пот по всему телу. Лицо его, однако, осталось совершенно невозмутимым. Не показывать тревоги! Не показывать недовольства! Одно движение глаз может выдать тебя. Он стоял и смотрел, как инструкторша поднимает руки над головой, нагибается и – не сказать что грациозно, но с похвальной четкостью и сноровкой – запихивает кончики пальцев рук под пальцы ног.
– Так-то, товарищи! Вот что я хочу от вас увидеть. Посмотрите еще раз. Мне тридцать девять, и я родила четырех детей. Теперь смотрите. – Она снова нагнулась. – Видите, мои колени не сгибаются. Вы все так сможете, если захотите, – добавила она, распрямившись. – Каждый до сорока пяти прекрасно способен коснуться своих пальцев ног. Не всем нам повезло сражаться на передовой, но все мы можем хотя бы поддерживать себя в форме. Вспомните наших ребят на Малабарском фронте! И моряков на Плавучей крепости! Только подумайте, каково приходится им. Теперь попробуем еще раз. Так-то лучше, товарищ, так гораздо лучше, – добавила она ободряюще, когда Уинстон отчаянным выпадом сумел коснуться пальцев ног, не сгибая коленей, впервые за несколько лет.
IV
Уинстон не сдержал глубокого безотчетного вздоха, несмотря на близость телеэкрана, и начал рабочий день: подтянул поближе речепис, сдул пыль с микрофона и надел очки. Затем развернул и скрепил вместе четыре бумажных рулончика, выскочивших из пневматической трубки справа от стола.
В стенах кабинки было три отверстия. Справа от речеписа находилась пневматическая трубка для письменных сообщений, слева – труба побольше для газет; а в боковой стене – только руку протяни – широкий овальный паз с проволочной заслонкой. Он служил для избавления от ненужных бумаг. Таких пазов в здании были тысячи, десятки тысяч – не только в каждой комнате, но и по несколько в каждом коридоре. Их почему-то прозвали провалами памяти. Когда надо было избавиться от документа или даже бумажки на полу, человек машинально поднимал заслонку ближайшего «провала памяти» и бросал туда ненужную бумагу, которую подхватывал поток теплого воздуха и уносил в огромные печи, скрытые где-то в недрах здания.
Уинстон развернул и изучил четыре бумаги. На каждой напечатано сообщение в одну-две строчки на телеграфном жаргоне, предназначавшемся в министерстве для внутренних нужд, – не совсем новояз, но по большей части из слов новояза. Он прочитал:
таймс 17.3.84 речь бб невер африка уточ
таймс 19.12.83 прогноз 4 кварт 3 гплан 83 опечат соглас текущ номер
таймс 14.2.84 минизоб цит невер шоколад уточ
таймс 3.12.83 отчет прикпостр бб дубльплюснехор ссыл нелицо перепис всецело покнач доподшив
С чувством предвкушения Уинстон отложил в сторону четвертое сообщение. Запутанная и ответственная работа, которую лучше оставить напоследок. Три других задания были рядовыми, хотя со вторым, вероятно, потребуется нудно копаться в цифрах.
Уинстон набрал на телеэкране «задние числа», запросил нужные номера «Таймс» – и через несколько минут они выскользнули из пневматической трубы. Телеграфные сообщения ссылались на статьи или новости, которые по той или иной причине требовалось изменить, или, выражаясь официальным языком, уточнить. Например, из «Таймс» от семнадцатого марта следовало, что Большой Брат в речи накануне предрек затишье на южноиндийском фронте и скорое наступление евразийских агрессоров в Северной Африке. На самом же деле евразийское высшее командование решило наступать в Южной Индии, оставив в покое Северную Африку. Поэтому нужно было так переписать абзац в речи Большого Брата, чтобы он как будто предсказал реальные события. Или, опять же, «Таймс» опубликовала от девятнадцатого декабря официальный прогноз выпуска потребительских товаров в третьем квартале 1983 года, то есть в шестом квартале Девятой Трехлетки. Сегодняшний номер приводил реальные показатели выпуска, из которых следовало, что прогнозы оказались совершенно неверны. Задачей Уинстона было уточнить исходные цифры и привести их к единству с последующими. Что же касалось третьего сообщения, то оно ссылалось на элементарную ошибку, которую легко исправить за пару минут. Не далее как в феврале Министерство изобилия пообещало («категорически утверждало», по официальному выражению), что сокращения рациона шоколада в течение 1984 года не будет. В действительности, как было известно Уинстону, рацион шоколада урежут с тридцати до двадцати граммов к концу текущей недели. Всего-то и дел – заменить исходное обещание предупреждением о вероятном сокращении пайка где-нибудь в апреле.
Как только Уинстон разделался со всеми сообщениями, он приколол речеписные исправления к соответствующим номерам «Таймс» и опустил их в пневматическую трубу. После чего одним движением, доведенным почти до полного автоматизма, скомкал черновики и исходные сообщения и бросил их в провал памяти, на корм огню.
Что происходило в невидимом лабиринте, к которому вели пневматические трубы, Уинстон в точности не знал, но мог представить в общих чертах. Как только соберут и сверят все поправки для того или иного номера «Таймс», эти номера перепечатают, а исходные – уничтожат, и исправленные экземпляры займут их место в подшивке. Процесс постоянного изменения применялся не только к газетам, но и к книгам, журналам, брошюрам, плакатам, листовкам, фильмам, звукозаписям, карикатурам, фотографиям – ко всему художественному и документальному, что могло иметь любую политическую или идеологическую значимость. Ежедневно и чуть ли ни ежеминутно прошлое подгонялось к настоящему. Сейчас верность любого прогноза Партии можно было подтвердить документальным свидетельством, и не оставалось ни единой заметки, ни единого мнения, противоречащих нуждам текущего момента. Вся история превратилась в палимпсест [2 - Палимпсест (греч. – palipmpseston – вновь соскобленный) – рукопись, написанная на пергаменте, уже бывшем в подобном употреблении.], выскобленный дочиста и переписанный заново столько раз, сколько было нужно. Как только работа завершалась, не оставалось никаких доказательств какой-либо фальсификации. Крупнейшая секция Отдела документации (намного больше той, где работал Уинстон) состояла из людей, которые только тем и занимались, что искали, изымали и уничтожали все экземпляры книг, газет и прочей печатной продукции, подвергшейся исправлениям. Номер «Таймс» могли перепечатать десяток раз вследствие изменений политического курса или ошибочных пророчеств Большого Брата, а он по-прежнему оставался в подшивке под исходной датой, и не существовало ни единого противоречащего ему экземпляра. Книги также отзывали и переписывали раз за разом, в итоге печатая заново без какого-либо указания о внесенных правках. Даже в письменных указаниях, которые Уинстон получал и сразу после исполнения уничтожал, никогда не утверждалось, хотя бы косвенно, что следует совершить подлог – речь всегда шла об описках, ошибках, опечатках или неверных цитатах, которые необходимо исправить в интересах точности.
Но в действительности, рассуждал Уинстон, заменяя показатели Министерства изобилия, это даже не подлог. Это всего лишь нагромождение одной ахинеи на другую. Большая часть материалов, с которыми приходилось работать, не имела ни малейшего отношения к реальному миру, хотя даже откровенная ложь обычно с ним связана. Статистика в исходной версии оставалась такой же фантазией, как и в исправленной. Постоянно приходилось брать данные просто с потолка. Например, Министерство изобилия прогнозировало выпуск ста сорока пяти миллионов пар обуви в текущем квартале. Реальная цифра составила шестьдесят два миллиона. Уинстон переписывал первоначальный прогноз на пятьдесят семь миллионов, чтобы оправдать непременное заявление о перевыполнении плана. В любом случае шестьдесят два миллиона были не ближе к реальности, чем пятьдесят семь или сто сорок пять миллионов. Весьма вероятно, что никакой обуви не было вообще. А еще вероятнее, что никто ничего конкретного об этом не знал и знать не желал. Все знали только, что по бумагам ежеквартально выпускались астрономические объемы обуви, тогда как чуть ли не половина населения Океании ходила босиком. Так же обстояло дело с любыми учетными данными, большими и малыми. Все растворялось в мире теней. В итоге невозможно было установить даже год того или иного события.
Уинстон кинул взгляд через зал. В кабинке у противоположной стены усердно трудился Тиллотсон, аккуратный человечек с небритым подбородком: на коленях у него лежала сложенная газета, рот прижат к микрофону речеписа. Было заметно, что он пытается сохранить каждое слово в тайне между собой и телеэкраном. Он поднял голову, и его очки враждебно сверкнули в сторону Уинстона.
Уинстон едва знал Тиллотсона и не имел представления о его служебных обязанностях. Люди в Отделе документации не любили говорить о своей работе. В этом длинном зале без окон, с двумя рядами кабинок, неумолкаемым шелестом бумаг и гудением голосов над речеписами трудилось не меньше десятка людей, которых Уинстон не знал даже по имени, хотя ежедневно видел, как они снуют туда-сюда по коридорам или машут руками на Двухминутках Ненависти. Он знал, что в соседней кабинке маленькая женщина с рыжеватыми волосами дни напролет выискивает и удаляет из печатных изданий имена людей, которых испарили, а стало быть, признали несуществующими. Она определенно занималась своим делом, поскольку ее собственного мужа испарили пару лет назад. А еще через несколько кабинок сидело кроткое, нескладное, витающее в облаках создание по фамилии Эмплфорт, с очень волосатыми ушами и удивительным талантом жонглировать рифмами и размерами. Его работа состояла в переделке стихотворений (это называлось «создание канонических версий»), которые признали идеологически вредными, но по тем или иным причинам их нужно было оставить в антологиях. А ведь этот зал с полусотней служащих был лишь подсекцией – по существу, одной ячейкой – огромного и сложного Отдела документации. За ним, над ним, под ним располагались сонмы работников с самыми невообразимыми задачами. Имелись огромные типографии со своими редакторами, полиграфистами и прекрасно оборудованными студиями для подделки фотографий. Имелась секция телепередач со своими инженерами, продюсерами и актерскими труппами, специально подобранными за умение имитировать голоса. Имелись армии секретарей, которые только и делали, что составляли списки книг и периодических изданий, требующих ревизии. Имелись необъятные хранилища для переделанных документов и скрытые печи для уничтожения исходных версий. А где-то находились анонимные руководящие мозги, которые координировали всю эту деятельность и прокладывали политические курсы. В соответствии с ними одни события прошлого надлежало сохранить, другие – фальсифицировать, а третьи – вычеркнуть из истории.
Отдел документации, по большому счету, являлся всего лишь филиалом Министерства правды, главная задача которого состояла не в переделке прошлого, а в снабжении граждан Океании газетами, фильмами, учебниками, телепередачами, пьесами, романами – всеми мыслимыми видами информации, прикладной или развлекательной: от закона до лозунга, от лирического стихотворения до биологического трактата, от детского букваря до словаря новояза. А министерство должно было не только удовлетворять разнообразные нужды Партии, но и дублировать всю свою деятельность на более низком уровне для пролетариев. Существовал целый ряд специальных отделов, занимавшихся пролетарской литературой, музыкой, драмой и досугом в целом. Здесь выпускались газетенки, освещавшие только спорт, криминал и астрологию, бульварные романчики по пять центов, скабрезные фильмы и сентиментальные песенки, сочинявшиеся исключительно механическим способом – посредством особого барабана под названием «версификатор». Была даже целая подсекция по производству самой низкопробной порнографии (порносек на новоязе), которую рассылали в запечатанных пакетах – ни один член Партии кроме непосредственных изготовителей, не имел права ее видеть.
Пока Уинстон работал, из пневматической трубки выскользнули еще три сообщения. Простые задания, и он успел разделаться с ними до начала Двухминутки Ненависти. После Ненависти он вернулся в кабинку, снял с полки словарь новояза, отодвинул в сторону речепис, протер очки и взялся за главное задание этого утра.
Ничто в жизни Уинстона не доставляло ему такой радости, как работа. Пусть она в основном состояла из серой рутины, но иногда попадались настолько сложные и запутанные поручения, что можно было погрузиться в них с головой, как в решение математической задачи – настолько тонкие подтасовки, что единственным руководством в них становилось только знание принципов Ангсоца и собственное понимание того, что же Партия желает от тебя услышать. Уинстон знал толк в таких делах. Случалось, ему даже доверяли уточнять передовицы «Таймс», написанные полностью на новоязе. Он развернул сообщение, которое отложил в самом начале работы, и перечитал его:
таймс 3.12.83 отчет прикпостр бб дубльплюснехор ссыл нелица перепис всецело покнач доподшив
На староязе (или обычном английском) это могло означать:
Приказ Большого Брата по стране, напечатанный в «Таймс» от 3 декабря 1983 года, изложен крайне неудовлетворительно и ссылается на несуществующих лиц. Полностью перепишите его и представьте свой вариант вышестоящему начальству перед отправкой в архив.
Уинстон прочитал неугодную статью. Кажется, приказ Большого Брата по стране по большей части хвалил организацию, известную как ПКПП. Она снабжала сигаретами и прочими предметами потребления матросов Плавучей крепости. Особо отметили некоего товарища Уизерса, выдающегося члена Внутренней Партии, – он удостоился отдельного упоминания и получил Орден второй степени за выдающиеся заслуги.
Три месяца спустя ПКПП внезапно расформировали без объяснения причин. Напрашивалось предположение, что Уизерс с сотрудниками впали в немилость, однако ни в печати, ни на телеэкране об этом ничего не говорили. Неудивительно, поскольку устраивать судебный процесс или хотя бы публично разоблачать политических преступников было не принято. Большие чистки на тысячи человек с открытыми процессами по предателям и мыслефелонам, которые смиренно каялись перед казнью, представляли собой особые постановки и проводились с интервалом в пару лет. Как правило, ставшие неугодными Партии люди исчезали бесследно. И никто не имел ни малейшего представления, что с ними случилось. Нельзя было даже считать их умершими. Помимо своих родителей, Уинстон лично знал около тридцати человек, которые в какой-то момент просто исчезли.
Уинстон мягко почесал нос скрепкой. В кабинке напротив товарищ Тиллотсон все так же скрытно нависал над речеписом. Поднял голову на миг – и вновь враждебно блеснули очки. Уинстон подумал, что товарищ Тиллотсон, вполне возможно, выполняет то же самое задание. Почему бы нет? Такую тонкую работу ни за что бы не доверили одному человеку; с другой стороны, если созывать для этого комиссию, пришлось бы открыто признать фальсификацию. Очень может быть, что сейчас с десяток человек составляют свои версии слов Большого Брата. А потом какой-нибудь начальственный ум во Внутренней Партии выберет из них одну, подредактирует и запустит сложный процесс проставления перекрестных ссылок, после чего избранная ложь будет окончательно отправлена в архив и сделается правдой.
Уинстон не знал, в чем провинился Уизерс. Возможно, дело было в коррупции или некомпетентности. Возможно, Большой Брат решил избавиться от подчиненного, ставшего не-в-меру-популярным. Возможно, Уизерса или кого-то из его окружения заподозрили в уклонизме. А возможно – и вероятнее всего – это случилось из-за самих принципов работы государственной машины, которой чистки и испарения были просто необходимы. Единственный определенный намек содержался в словах «ссыл нелица». Они означали, что Уизерс уже мертв. Не всегда при арестах можно было сказать такое с уверенностью. Иногда людей выпускали и давали пожить на свободе год-другой перед казнью. Изредка даже случалось, что кто-то, кого ты давно считал мертвым, возникал вдруг, точно призрак, на каком-нибудь открытом процессе и давал показания против сотен человек, после чего исчезал уже навсегда. Однако Уизерс уже был нелицом. Его не существовало, причем – никогда. Уинстон решил, что недостаточно просто изменить направление мыслей Большого Брата. Лучше написать о чем-то совершенно не связанном с исходной темой.
Можно свести все к обычному разоблачению предателей и мыслефелонов, но это было бы слишком прозрачно; с другой стороны, если выдумать победу на фронте или триумфальное перевыполнение Девятой Трехлетки, то это повлечет за собой лишнюю мороку с переписыванием документов. Здесь требовалась чистая фантазия. И вдруг в памяти у Уинстона всплыл – можно сказать, готовым к употреблению – образ некоего товарища Огилви, недавно павшего в бою смертью храбрых. Бывали случаи, когда Большой Брат посвящал целый приказ по стране памяти какого-нибудь скромного рядового члена Партии, жизнь и смерть которого могли служить достойным примером. Что ж, на этот раз он почтит память товарища Огилви. Правда, никакого товарища Огилви никогда не существовало, но несколько печатных строк и пара липовых фотографий решат эту задачу.
Подумав секунду, Уинстон притянул к себе речепис и начал диктовать в привычной манере Большого Брата. Манера эта, одновременно военная и педантичная, легко имитировалась одним характерным приемом: нужно было задавать вопросы и тут же на них отвечать («Какой же урок извлечем мы из этого факта, товарищи? А урок – и вместе с тем один из базовых принципов Ангсоца – таков…» и т. д. и т. п.).
В возрасте трех лет товарищ Огилви отказался от всех игрушек, кроме барабана, автомата и вертолета. В шесть – на год раньше, в виде особого исключения – его приняли в Разведчики, а в девять он уже был командиром отряда. В одиннадцать, подслушав дядин разговор, он уловил в нем преступные тенденции и донес в Мыслеполицию. В семнадцать он стал районным руководителем молодежной лиги Антисекс. В девятнадцать изобрел ручную гранату, которую приняли на вооружение в Министерстве мира, и на первом же испытании она разнесла в клочья тридцать одного евразийского военнопленного. В двадцать три года товарищ Огилви погиб, выполняя свой долг. Пролетая над Индийским океаном с важными донесениями, он попал под атаку вражеских истребителей, привязал к себе пулемет, как грузило, и выпрыгнул из вертолета в глубокие воды со всеми секретными документами. О такой кончине, сказал Большой Брат, нельзя говорить без зависти. Затем Большой Брат добавил несколько замечаний о жизни товарища Огилви в целом, которая была отмечена чистотой и целеустремленностью. Он не пил, не курил и не знал иного досуга, кроме ежедневного часа в спортзале. Решив, что женитьба и забота о семье несовместимы с круглосуточным служением долгу, товарищ Огилви дал обет безбрачия. Он не вел никаких разговоров, кроме как о принципах Ангсоца, и не имел иной цели в жизни, кроме победы над евразийским врагом и разоблачения шпионов, вредителей, мыслефелонов и прочих предателей.
Уинстон подумал было наградить товарища Огилви орденом за выдающиеся заслуги, но потом решил, что это будет лишним и повлечет за собой ненужные перекрестные ссылки и исправления.
Он снова взглянул на соперника в кабинке напротив. Что-то подсказывало ему, что Тиллитсон трудился над тем же заданием. Неизвестно, чью работу в итоге примут, но Уинстон был уверен в своем варианте. Невообразимый еще час назад товарищ Огилви вошел в реальность. Уинстон вдруг поразился, что можно создавать умерших, но не живых. Товарищ Огилви никогда не существовал в настоящем времени, но теперь существует в прошлом, и как только факт подлога забудется, Огилви станет столь же несомненной и неопровержимой фигурой, как Карл Великий или Юлий Цезарь.
V
В столовой с низким потолком, глубоко под землей, очередь за обедом двигалась рывками. Было полно народу и очень шумно. От жаровни за стойкой валил мясной пар с кислым металлическим душком, но все перебивал запах джина «Победа». В дальнем конце зала обустроили маленький бар, больше похожий на дыру в стене, где разливали джин по десять центов за шкалик.
– Вот кого я искал, – произнес кто-то за спиной Уинстона.
Он обернулся. Это был его приятель Сайм из Исследовательского отдела. Пожалуй, «приятель» – не совсем верное слово. Сейчас нет никаких приятелей, только товарищи, но с определенными товарищами приятней делить компанию, чем с другими. Сайм был филологом, специалистом по новоязу. Он работал в составе огромной экспертной группы, корпевшей над одиннадцатым изданием словаря новояза. Сайм был совсем мелким, мельче Уинстона, с темными волосами и большими глазами навыкате, скорбно-насмешливыми, словно обыскивавшими лицо собеседника.
– Хотел спросить, не осталось у тебя лезвий? – осведомился он.
– Ни одного! – ответил Уинстон с какой-то виноватой поспешностью. – Сам везде искал. Их больше нет.
Все спрашивали про лезвия. Вообще-то у него лежали еще два нетронутых про запас. Последние месяцы с лезвиями была беда. В партийных магазинах постоянно пропадал то один, то другой товар первой необходимости: то пуговицы, то нитки, то шнурки; теперь вот – лезвия. Их можно было раздобыть только украдкой на «свободном» рынке, если повезет.
– Бреюсь одним уже полтора месяца, – соврал Уинстон.
Очередь продвинулась еще на шаг. Он остановился, вновь обернулся и взглянул на Сайма. Оба взяли засаленные металлические подносы из стопки с краю стойки.
– Ходил вчера смотреть, как вешают пленных? – спросил Сайм.
– Я работал, – равнодушно ответил Уинстон. – Увижу, наверное, в кино.
– Весьма неравноценная замена, – заявил Сайм.
Его насмешливый взгляд шарил по лицу Уинстона.
«Знаю я тебя, – словно говорил этот взгляд, – насквозь вижу. Я прекрасно знаю, почему ты не ходил смотреть, как вешают пленных».
Сайм, как интеллектуал, был язвительно правоверен. Он со злорадством говорил о вертолетных атаках на вражеские деревни, о процессах и признаниях мыслефелонов, о казнях в подвалах Министерства любви. В беседах приходилось все время уводить его от этих тем и по возможности переводить разговор на технические тонкости новояза, о которых он рассказывал интересно и со знанием дела. Уинстон слегка повернулся, уклоняясь от испытующего взгляда больших темных глаз.