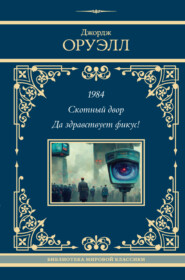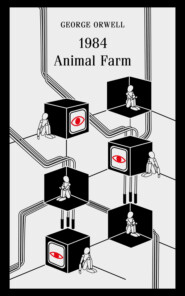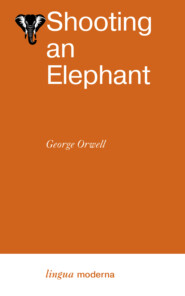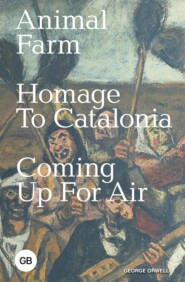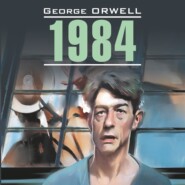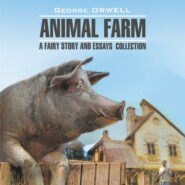По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
1984
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1949
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Уинстону она не понравилась с первого взгляда. Он знал почему: от нее веяло духом полей для хоккея на траве, купаний в ледяной воде, коллективных походов и в целом незамутненностью. Уинстон вообще недолюбливал почти всех женщин, особенно молодых и симпатичных. Именно женщины, а молодые в первую очередь, и есть самые зашоренные партийцы, принимающие на веру все лозунги, добровольные шпионки, которые всюду вынюхивают неправоверность. А эта казалась опаснее большинства прочих. Однажды, проходя мимо него по коридору, она бросила на него быстрый косой взгляд, который словно пронзил его насквозь и на мгновение наполнил неизъяснимым ужасом. У него даже мелькнула мысль, что она, возможно, агент Думнадзора. Хотя это, конечно, вряд ли. Однако всякий раз, оказываясь рядом с ней, он продолжал чувствовать странный дискомфорт, замешенный на страхе и враждебности.
Вторым вошедшим был О’Брайен, член Внутренней партии, обладатель должности настолько важной, что Уинстон лишь отдаленно представлял себе, чем он занимается. Собравшиеся у расставленных стульев на миг притихли, завидев черный комбинезон члена Внутренней партии. О’Брайен – крупный, мускулистый мужчина с мощной шеей и грубым, звероподобным, но веселым лицом. Несмотря на столь внушительную наружность, он был не лишен обаяния. Порой он проделывал обезоруживающий фокус с очками – поправлял их на носу, что каким-то неясным образом придавало ему цивилизованный вид. Если бы кто-то до сих пор мыслил такими категориями, этот жест напомнил бы ему аристократов восемнадцатого века, предлагающих друг другу понюшку табаку.
За десять лет Уинстон видел О’Брайена, может быть, дюжину раз, но чувствовал к нему сильную тягу – не только потому, что его интриговал контраст между светскими манерами и боксерским телосложением О’Брайена. Скорее, дело было в тайной уверенности – а может, и просто надежде, – что политическая правоверность О’Брайена сомнительна. Что-то в его лице прямо на это указывало. Хотя, возможно, у него на лице был написан просто ум, а необязательно неправоверность. Но в любом случае он казался человеком, с которым можно поговорить один на один, если как-то обмануть телевид. Уинстон ни разу даже не попытался проверить свою догадку, да и как бы он это сделал?
В этот момент О’Брайен взглянул на часы, заметил, что уже почти одиннадцать, и, похоже, решил остаться в архивном секторе до конца Минуты ненависти. Он занял стул в том же ряду, что и Уинстон, через два места от него. Невысокая рыжеватая женщина из соседней с Уинстоном ячейки села между ними. Темноволосая девушка – позади них.
Тут из большого телевида на дальней стене полилась отвратительная, лязгающая речь, словно запустили, забыв смазать, какой-то чудовищный станок. От одного этого звука хотелось скрипеть зубами, а волосы на затылке шевелились. Началась Минута ненависти.
Как обычно, вспыхнуло на экране лицо Эммануэля Гольдштейна, Врага народа. В публике зашикали. Рыжеватая женщина пискнула от ужаса, смешанного с отвращением. Гольдштейн – ренегат и перевертыш, в свое время (никто уже не помнил толком, когда именно) входивший в число лидеров Партии и считавшийся почти ровней самому Старшему Брату. Впоследствии он переметнулся в лагерь контрреволюции, а после смертного приговора чудесным образом спасся и исчез. Программа Минуты ненависти меняется от раза к разу, но Гольдштейн всегда остается ее главным фигурантом – первопредателем, первым осквернителем партийной чистоты. Все дальнейшие преступления против Партии, все измены и акты вредительства, все ереси и уклоны прямо следуют из его учения. Где бы он ни находился, он все еще строит козни – может быть, где-то за океаном, под защитой своих иностранных спонсоров. Ходят и слухи, что он скрывается где-то в самой Океании, в подполье.
У Уинстона сдавило в груди. Он не мог даже смотреть на Гольдштейна, не испытывая болезненной гаммы эмоций. Это худое еврейское лицо с козлиной бородкой, окруженное нимбом пушистых седых волос, – непростое лицо, но на каком-то глубинном уровне отвратительное. Что-то придурковато-стариковское видится в этом длинном тонком носе, на самом кончике которого примостились очки. Лицо Гольдштейна напоминало овечью морду, да и в голосе тоже слышалось блеянье. Как обычно, он ядовито критиковал партийную доктрину, нападал на нее, так сгущая краски и извращая логику, что и ребенок бы понял, в чем подвох, – но все же достаточно убедительно, чтобы вызвать тревогу: а что, если на других, менее рассудительных, это подействует? Он бранил Старшего Брата, поносил диктатуру Партии, требовал немедленного мира с Евразией, отстаивал свободу слова, свободу прессы, свободу собраний, свободу мысли. Он истерично обличал предателей Революции, говорил торопливо и многосложно, словно пародируя обычный стиль партийных ораторов. Он даже вворачивал новоречные слова, больше новоречных слов, чем употребляет любой нормальный партиец. И все это время, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что скрывается за грязными спекуляциями Гольдштейна, за его спиной в телевиде маршировали бесконечные колонны евразийской армии – шеренга крепких мужчин с непроницаемыми азиатскими лицами выплывала на экран и исчезала, уступая место другой шеренге, точно такой же. Глухой ритмичный топот солдатских сапог служил фоном для блеяния Гольдштейна.
Не прошло и тридцати секунд, а половина собравшихся уже не могла сдержать гневные выкрики. Самодовольная овечья морда на экране и пугающая мощь евразийской армии на заднем плане – невыносимое сочетание. К тому же и вид Гольдштейна, и даже мысль о нем сами собой вызывают страх и гнев. Ненависть к нему крепче, чем к Евразии или Остазии, – ведь когда Океания воюет с одной из этих держав, с другой она обычно находится в мире. Но вот что странно: хотя все ненавидят и презирают Гольдштейна, хотя каждый день (по тысяче раз на дню!) с трибун, из телевида, в газетах, в книгах опровергаются, разносятся в пух и прах, подвергаются осмеянию его теории, раскрывается для всех и каждого их жалкая сущность – несмотря на все это, влияние его, похоже, не уменьшается. Всегда находятся новые простаки, которых он может оболванить. Ни дня не проходит, чтобы Думнадзор не разоблачал шпионов и вредителей, действующих по его указке. Он командует огромной теневой армией, подпольной сетью заговорщиков, преданных делу разрушения Государства. Братство – так, говорят, они себя называют. Перешептываются и об ужасной книге за авторством Гольдштейна, тайно распространяющемся сборнике всех ересей. Она никак не называется, и если о ней говорят, то просто как о книге. Но о таких вещах узнают только из туманных слухов. Ни Братство, ни книгу ни один рядовой партиец не стал бы обсуждать по своей воле.
Ко второй половине Минуты градус ненависти поднялся до неистовства. Зрители повскакивали с мест и орали во всю глотку, стараясь заглушить сводящее с ума блеяние человека на экране.
Худенькая рыжеватая женщина раскраснелась и хватала воздух ртом, как выброшенная на берег рыба. Даже на грубом лице О’Брайена проступила краска. Он сидел на стуле очень прямо, его мощная грудь ходила ходуном, словно он противостоял натиску волны. Темноволосая девушка за спиной Уинстона начала выкрикивать: «Гад! Гад! Гад!» Она вдруг схватила тяжелый словарь новоречи и запустила им в экран. Он угодил Гольдштейну в нос и отскочил. Но речь продолжалась неумолимо. В момент просветления Уинстон осознал, что кричит вместе со всеми и ожесточенно пинает перекладину своего стула. Самое страшное в Минуте ненависти – не то, что приходится играть роль, а то, что в нее невозможно не включиться. После тридцати секунд притворство уже ни к чему. Мерзостный экстаз, замешенный на страхе, жажде мести, желании убивать, пытать, крушить лица кувалдой, словно держит всех участников под электрическим напряжением, превращая их помимо воли в кривляющихся, орущих безумцев. Гнев, который они испытывают, абстрактен и ни на что не направлен. Его можно повернуть от одного объекта к другому, как пламя паяльной лампы. Иногда ненависть Уинстона нацеливалась не на Гольдштейна, а, наоборот, на Старшего Брата, Партию и Думнадзор, и тогда он всем сердцем сочувствовал одинокому, осмеянному еретику на экране, единственному поборнику истины в мире лжи. Но уже в следующее мгновение Уинстон сливался в единое целое с окружающими, и все, что говорили о Гольдштейне, казалось ему правдой. В такие моменты его тайная ненависть к Старшему Брату превращалась в обожание, и Старший Брат возвышался до непобедимого, бесстрашного защитника, стоящего, как скала, на пути азиатских орд, а Гольдштейн, несмотря на одиночество, беспомощность и угрозу, нависавшую над самим его существованием, казался коварным чародеем, способным одной лишь силой своего голоса подорвать основы цивилизации.
Иногда можно и сознательно переключить ненависть в ту или иную сторону. Внезапно, таким же рывком, каким вскидывают голову с подушки, спасаясь от ночного кошмара, Уинстон сумел перенести ненависть с лица на экране на темноволосую девушку за спиной. Яркие, чудесные галлюцинации пронеслись у него в мозгу. Забить ее до смерти резиновой дубинкой. Привязать голую к столбу и изрешетить стрелами, как святого Себастьяна. Взять ее силой и перерезать горло в момент оргазма. К тому же теперь он лучше, чем раньше, понимал, почему ее ненавидит. За молодость, красоту и бесполость, за то, что хочет ее, но никогда не получит: ведь вокруг ее талии, словно приглашавшей к объятиям, обвивался лишь возмутительный красный пояс, символ агрессивного целомудрия.
Ненависть достигла высшей точки. Голос Гольдштейна перешел в настоящее овечье блеяние, а его лицо на мгновение стало овечьей мордой. Морда растаяла, уступив место огромной жуткой фигуре евразийского солдата с извергающим огонь автоматом. Он словно шел на зрителей и, казалось, вот-вот прорвет поверхность экрана, так что люди из первых рядов даже вжались в спинки стульев. Но в ту же секунду все облегченно выдохнули: фигуру врага сменил черноусый лик Старшего Брата, исполненный мощи и непостижимого спокойствия. Он был так огромен, что заполнил собой почти весь экран. Никто не слышал, что говорил Старший Брат. То были всего несколько ободряющих слов – такие произносят средь шума битвы, они неразличимы сами по себе, но внушают уверенность уже самим фактом произнесения. Затем лицо Старшего Брата растворилось и вместо него возникли набранные жирными прописными буквами три лозунга Партии:
ВОЙНА ЕСТЬ МИР
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА
Казалось, однако, что лик Старшего Брата не исчезал с экрана еще несколько секунд, словно оставил такой яркий след на сетчатке глаз, что не мог сразу померкнуть. Маленькая рыжеватая сотрудница рванулась вперед, чуть не опрокинув впереди стоящий стул. С трепетом нашептывая что-то вроде «Мой спаситель!», она протянула руки к экрану, а потом закрыла ими лицо. Казалось, она произносит молитву.
В это мгновение все зрители начали глухо, неспешно, ритмично скандировать: «Наш брат! Наш брат!» – снова и снова, очень медленно, выдерживая долгую паузу между «наш» и «брат». В низком рокоте голосов слышалось что-то неуловимо дикарское, будто ему сопутствовали топот босых ног и пульс тамтамов. Голоса не утихали с полминуты. Подхваченный ими рефрен часто звучал в особо эмоциональные моменты. Отчасти это своего рода гимн мудрости и величию Старшего Брата, но в еще большей степени – акт самогипноза, при котором сознание намеренно подавляется ритмичным звуком. У Уинстона похолодело внутри. Во время Минуты ненависти он не мог не разделить всеобщего безумия, но это первобытное скандирование – «Наш-брат-наш-брат» – всегда наполняло его ужасом. Конечно, он скандировал вместе с другими: иначе нельзя. Маскировать чувства, контролировать лицо давно стало инстинктом. Но в какой-то двухсекундный промежуток выражение глаз вполне могло выдать его. И как раз в этот момент случилось важное – а может, лишь почудилось.
На секунду он встретился взглядом с О’Брайеном. Тот поднялся с места, снял очки и как раз водружал их характерным жестом обратно на нос. Но их глаза встретились, и на это мгновение Уинстона посетила уверенность – да, именно уверенность! – что мысли О’Брайена сродни его собственным. Ошибки быть не могло – послание отправлено и получено, словно между ними открылся канал, по которому мысли перетекали от одного к другому через глаза. «Я с тобой, – казалось, говорил ему О’Брайен. – Я знаю, что ты чувствуешь. Все знаю о твоем презрении, ненависти, отвращении. Но не тревожься, я на твоей стороне!» Тут озарение угасло. Лицо О’Брайена стало таким же непроницаемым, как у остальных.
Вот и все. Уинстон уже сомневался, было ли это на самом деле. Такие эпизоды никогда не имели продолжения. Они лишь поддерживали в нем веру – или надежду, – что он у Партии не единственный враг. Может быть, слухи о подполье заговорщиков все же правда? Вдруг и Братство существует! Ведь невозможно, несмотря на бесконечные аресты, признания и казни, быть до конца уверенным, что Братство – не просто миф. Иногда Уинстон верил в его существование, иногда нет. Вместо доказательств он мог полагаться только на случайные проблески, которые могли что-то значить… или не значить ничего: обрывки подслушанных разговоров, полустертые каракули на стенах общественных туалетов, а однажды, при встрече двух незнакомцев, – едва заметный жест, похожий на условный знак. Оставалось лишь гадать: может, все это ему только чудится. Он вернулся в свою ячейку, больше не взглянув на О’Брайена. Поддержать возникший между ними контакт ему и в голову не приходило. Это было бы невообразимо опасно – даже знай он как. В течение секунды или двух они с О’Брайеном обменялись двусмысленными взглядами – вот и все. Но даже и это – уже незабываемое событие в его вынужденно одиноком, замкнутом мире.
Уинстон прервал раздумья, сел прямее. Джин подступал к горлу отрыжкой.
Глаза Уинстона снова сфокусировались на странице. Оказалось, пока он размышлял, его рука машинально продолжала писать и уже не так судорожно и неуклюже, как раньше. Перо привольно скользило по гладкой бумаге, выводя крупными, аккуратными прописными буквами:
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
– и так полстраницы.
В нем шевельнулся рефлекторный ужас – хотя бояться уже нелепо, ведь эти конкретные слова ничуть не опаснее, чем изначальное решение завести дневник. Но на какое-то мгновение у него возник соблазн вырвать испорченные страницы и вообще отказаться от задуманного.
Однако Уинстон этого не сделал, потому что понимал: бесполезно. Напишет ли он «Долой Старшего Брата» или удержится – никакой разницы. Думнадзор все равно до него доберется. Он совершил – и все равно совершил бы, даже не коснувшись пером бумаги, – базовое преступление, из которого проистекали все остальные. Криводум – вот как оно называлось. Криводум невозможно скрывать вечно. Какое-то время, даже не один год, можно изворачиваться, но рано или поздно до тебя доберутся.
Ночью, арестовывают неизменно ночью. Рывком из сна, грубая рука трясет за плечо, яркий свет в глаза, кольцо суровых лиц вокруг постели. В подавляющем большинстве случаев – никакого суда, никаких оповещений об аресте. Люди просто исчезают и всегда – в ночь. Имена вычеркиваются из списков, все следы стираются, само существование человека сначала отрицается, а потом забывается. Человека отменяют, обращают в ничто – «испаряют», так это принято называть.
На мгновение Уинстон впал в некое подобие истерики. Начал писать торопливо, неряшливо:
меня расстреляют ну и наплевать пустят пулю в затылок наплевать долой старшего брата они всегда стреляют в затылок наплевать долой старшего брата…
Уинстон откинулся на стуле. Ему стало немного стыдно за себя, и он отложил ручку. А в следующую секунду содрогнулся всем телом: в дверь постучали.
Уже! Он сидел тихо, как мышь, в напрасной надежде, что кто бы это ни был уйдет, не дождавшись ответа. Но нет, стук повторился. Тянуть время – хуже не придумаешь. Сердце Уинстона стучало, как барабан, но лицо по давней привычке ничего не выражало. Он поднялся и, тяжело ступая, направился к двери.
2.
Лишь взявшись за дверную ручку, Уинстон заметил, что оставил на столе открытый дневник, весь исписанный словами «Долой Старшего Брата», да так крупно, что их почти можно прочесть с другого конца комнаты. Невообразимая глупость. Он знал, однако, что даже в панике не захотел испачкать кремовую бумагу, захлопнув тетрадь, пока чернила еще не высохли.
Он втянул в себя воздух и открыл дверь. Тут же его накрыла теплая волна облегчения. Снаружи стояла бесцветная, погасшая женщина, морщинистая, с редкими волосами.
– Товарищ, – заныла она тоскливо, – не зря мне послышалось, что вы вернулись. Вы не зайдете к нам взглянуть на раковину в кухне? Засорилась она у нас, ну и…
Миссис Парсонс, жена соседа по этажу. (Слово «миссис» партия не очень-то одобряет, всех надо называть «товарищ», но к некоторым женщинам непроизвольно обращаешься так и никак иначе.) В свои примерно тридцать она выглядела намного старше. Казалось, в ее морщинах скопилась пыль. Уинстон пошел за ней по коридору. Ремонт подручными средствами – почти ежедневная морока. Апартаменты «Победа», где-то 1930 года постройки, постепенно разваливаются. С потолков и стен постоянно сыплется штукатурка, при каждом серьезном морозе лопаются трубы, крыша течет всякий раз, как выпадает снег, отопление работает в половину мощности, и то когда не отключено из экономии. На любой ремонт не своими силами требуется разрешение далекого начальства: так и оконное стекло можно вставлять два года.
– Я только потому прошу, что Тома сейчас нет, – вяло оправдывалась миссис Парсонс.
Квартира Парсонсов – побольше, чем у Уинстона, и тоже запущенная, но по-другому. Все здесь выглядит побитым, потрепанным, словно в квартире только что побывал большой разъяренный зверь. Повсюду валяется спортивный инвентарь – хоккейные клюшки, боксерские перчатки, лопнувший футбольный мяч, – а стол завален грязной посудой и растрепанными тетрадками. На стенах – алые знамена Молодежного союза и Лазутчиков, полноразмерный плакат со Старшим Братом. Пахнет, как и во всем здании, вареной капустой, но сквозь эту привычную вонь пробивается более резкий запах пота, и отчего-то сразу ясно, что источник этого запаха сейчас не дома. В другой комнате кто-то пытается с помощью расчески и клочка туалетной бумаги подыгрывать военному оркестру, все еще звучащему из телевида.
– Дети, – сказала миссис Парсонс, c некоторой опаской взглянув на дверь. – Они сегодня не выходили, вот и…
Она все время обрывала предложения на полуслове.
Раковина оказалась почти доверху наполнена мутной зеленоватой водой, от которой особенно сильно разило капустой. Уинстон опустился на колени и осмотрел сифон. Он терпеть не мог работать руками, да и нагибаться тоже – от этого его вечно разбирал кашель. Миссис Парсонс беспомощно глазела на него.
– Конечно, если бы Том был дома, он бы тут же все починил, – сказала она. – Он такое любит. Том у меня рукастый.
Парсонс, как и Уинстон, работал в Глависте: полноватый, но подвижный, глупый до оцепенения – кретин-энтузиаст, один из тех со всем согласных, беззаветных трудяг, на которых даже больше, чем на Думнадзоре, держалась Партия. В тридцать пять лет его помимо воли выставили из Молодежного союза, а прежде чем вступить в него, он умудрился год сверх положенного возраста проходить в Лазутчиках. В главке он занимал какую-то невысокую должность, не требовавшую мозгов, но при этом доказал свою незаменимость в спорткоме и других комитетах, отвечавших за походы, стихийные демонстрации, кампании экономии и прочую общественную деятельность. Между затяжками трубкой он мог поведать вам со скромной гордостью, что каждый вечер за последние четыре года посещал культурно-спортивный центр (КСЦ) и ни разу не пропустил. Сшибающий с ног запах пота, невольное свидетельство его активной жизненной позиции, шлейфом тянулся за ним повсюду и не выветривался даже в его отсутствие.
– Разводной ключ есть? – спросил Уинстон, мучаясь с гайкой на сифоне.
– Разводной ключ, – промямлила миссис Парсонс, сразу превращаясь в амебу. – Даже не знаю. Может быть, дети…
Послышался топот и трубный звук расчески – это дети ворвались в гостиную. Миссис Парсонс принесла разводной ключ. Уинстон спустил зеленоватую жижу и с отвращением извлек из трубы комок волос. Отмыв руки, как мог, холодной водой, он вышел в комнату.
– Руки вверх! – приветствовал его дикий вопль.
Вторым вошедшим был О’Брайен, член Внутренней партии, обладатель должности настолько важной, что Уинстон лишь отдаленно представлял себе, чем он занимается. Собравшиеся у расставленных стульев на миг притихли, завидев черный комбинезон члена Внутренней партии. О’Брайен – крупный, мускулистый мужчина с мощной шеей и грубым, звероподобным, но веселым лицом. Несмотря на столь внушительную наружность, он был не лишен обаяния. Порой он проделывал обезоруживающий фокус с очками – поправлял их на носу, что каким-то неясным образом придавало ему цивилизованный вид. Если бы кто-то до сих пор мыслил такими категориями, этот жест напомнил бы ему аристократов восемнадцатого века, предлагающих друг другу понюшку табаку.
За десять лет Уинстон видел О’Брайена, может быть, дюжину раз, но чувствовал к нему сильную тягу – не только потому, что его интриговал контраст между светскими манерами и боксерским телосложением О’Брайена. Скорее, дело было в тайной уверенности – а может, и просто надежде, – что политическая правоверность О’Брайена сомнительна. Что-то в его лице прямо на это указывало. Хотя, возможно, у него на лице был написан просто ум, а необязательно неправоверность. Но в любом случае он казался человеком, с которым можно поговорить один на один, если как-то обмануть телевид. Уинстон ни разу даже не попытался проверить свою догадку, да и как бы он это сделал?
В этот момент О’Брайен взглянул на часы, заметил, что уже почти одиннадцать, и, похоже, решил остаться в архивном секторе до конца Минуты ненависти. Он занял стул в том же ряду, что и Уинстон, через два места от него. Невысокая рыжеватая женщина из соседней с Уинстоном ячейки села между ними. Темноволосая девушка – позади них.
Тут из большого телевида на дальней стене полилась отвратительная, лязгающая речь, словно запустили, забыв смазать, какой-то чудовищный станок. От одного этого звука хотелось скрипеть зубами, а волосы на затылке шевелились. Началась Минута ненависти.
Как обычно, вспыхнуло на экране лицо Эммануэля Гольдштейна, Врага народа. В публике зашикали. Рыжеватая женщина пискнула от ужаса, смешанного с отвращением. Гольдштейн – ренегат и перевертыш, в свое время (никто уже не помнил толком, когда именно) входивший в число лидеров Партии и считавшийся почти ровней самому Старшему Брату. Впоследствии он переметнулся в лагерь контрреволюции, а после смертного приговора чудесным образом спасся и исчез. Программа Минуты ненависти меняется от раза к разу, но Гольдштейн всегда остается ее главным фигурантом – первопредателем, первым осквернителем партийной чистоты. Все дальнейшие преступления против Партии, все измены и акты вредительства, все ереси и уклоны прямо следуют из его учения. Где бы он ни находился, он все еще строит козни – может быть, где-то за океаном, под защитой своих иностранных спонсоров. Ходят и слухи, что он скрывается где-то в самой Океании, в подполье.
У Уинстона сдавило в груди. Он не мог даже смотреть на Гольдштейна, не испытывая болезненной гаммы эмоций. Это худое еврейское лицо с козлиной бородкой, окруженное нимбом пушистых седых волос, – непростое лицо, но на каком-то глубинном уровне отвратительное. Что-то придурковато-стариковское видится в этом длинном тонком носе, на самом кончике которого примостились очки. Лицо Гольдштейна напоминало овечью морду, да и в голосе тоже слышалось блеянье. Как обычно, он ядовито критиковал партийную доктрину, нападал на нее, так сгущая краски и извращая логику, что и ребенок бы понял, в чем подвох, – но все же достаточно убедительно, чтобы вызвать тревогу: а что, если на других, менее рассудительных, это подействует? Он бранил Старшего Брата, поносил диктатуру Партии, требовал немедленного мира с Евразией, отстаивал свободу слова, свободу прессы, свободу собраний, свободу мысли. Он истерично обличал предателей Революции, говорил торопливо и многосложно, словно пародируя обычный стиль партийных ораторов. Он даже вворачивал новоречные слова, больше новоречных слов, чем употребляет любой нормальный партиец. И все это время, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что скрывается за грязными спекуляциями Гольдштейна, за его спиной в телевиде маршировали бесконечные колонны евразийской армии – шеренга крепких мужчин с непроницаемыми азиатскими лицами выплывала на экран и исчезала, уступая место другой шеренге, точно такой же. Глухой ритмичный топот солдатских сапог служил фоном для блеяния Гольдштейна.
Не прошло и тридцати секунд, а половина собравшихся уже не могла сдержать гневные выкрики. Самодовольная овечья морда на экране и пугающая мощь евразийской армии на заднем плане – невыносимое сочетание. К тому же и вид Гольдштейна, и даже мысль о нем сами собой вызывают страх и гнев. Ненависть к нему крепче, чем к Евразии или Остазии, – ведь когда Океания воюет с одной из этих держав, с другой она обычно находится в мире. Но вот что странно: хотя все ненавидят и презирают Гольдштейна, хотя каждый день (по тысяче раз на дню!) с трибун, из телевида, в газетах, в книгах опровергаются, разносятся в пух и прах, подвергаются осмеянию его теории, раскрывается для всех и каждого их жалкая сущность – несмотря на все это, влияние его, похоже, не уменьшается. Всегда находятся новые простаки, которых он может оболванить. Ни дня не проходит, чтобы Думнадзор не разоблачал шпионов и вредителей, действующих по его указке. Он командует огромной теневой армией, подпольной сетью заговорщиков, преданных делу разрушения Государства. Братство – так, говорят, они себя называют. Перешептываются и об ужасной книге за авторством Гольдштейна, тайно распространяющемся сборнике всех ересей. Она никак не называется, и если о ней говорят, то просто как о книге. Но о таких вещах узнают только из туманных слухов. Ни Братство, ни книгу ни один рядовой партиец не стал бы обсуждать по своей воле.
Ко второй половине Минуты градус ненависти поднялся до неистовства. Зрители повскакивали с мест и орали во всю глотку, стараясь заглушить сводящее с ума блеяние человека на экране.
Худенькая рыжеватая женщина раскраснелась и хватала воздух ртом, как выброшенная на берег рыба. Даже на грубом лице О’Брайена проступила краска. Он сидел на стуле очень прямо, его мощная грудь ходила ходуном, словно он противостоял натиску волны. Темноволосая девушка за спиной Уинстона начала выкрикивать: «Гад! Гад! Гад!» Она вдруг схватила тяжелый словарь новоречи и запустила им в экран. Он угодил Гольдштейну в нос и отскочил. Но речь продолжалась неумолимо. В момент просветления Уинстон осознал, что кричит вместе со всеми и ожесточенно пинает перекладину своего стула. Самое страшное в Минуте ненависти – не то, что приходится играть роль, а то, что в нее невозможно не включиться. После тридцати секунд притворство уже ни к чему. Мерзостный экстаз, замешенный на страхе, жажде мести, желании убивать, пытать, крушить лица кувалдой, словно держит всех участников под электрическим напряжением, превращая их помимо воли в кривляющихся, орущих безумцев. Гнев, который они испытывают, абстрактен и ни на что не направлен. Его можно повернуть от одного объекта к другому, как пламя паяльной лампы. Иногда ненависть Уинстона нацеливалась не на Гольдштейна, а, наоборот, на Старшего Брата, Партию и Думнадзор, и тогда он всем сердцем сочувствовал одинокому, осмеянному еретику на экране, единственному поборнику истины в мире лжи. Но уже в следующее мгновение Уинстон сливался в единое целое с окружающими, и все, что говорили о Гольдштейне, казалось ему правдой. В такие моменты его тайная ненависть к Старшему Брату превращалась в обожание, и Старший Брат возвышался до непобедимого, бесстрашного защитника, стоящего, как скала, на пути азиатских орд, а Гольдштейн, несмотря на одиночество, беспомощность и угрозу, нависавшую над самим его существованием, казался коварным чародеем, способным одной лишь силой своего голоса подорвать основы цивилизации.
Иногда можно и сознательно переключить ненависть в ту или иную сторону. Внезапно, таким же рывком, каким вскидывают голову с подушки, спасаясь от ночного кошмара, Уинстон сумел перенести ненависть с лица на экране на темноволосую девушку за спиной. Яркие, чудесные галлюцинации пронеслись у него в мозгу. Забить ее до смерти резиновой дубинкой. Привязать голую к столбу и изрешетить стрелами, как святого Себастьяна. Взять ее силой и перерезать горло в момент оргазма. К тому же теперь он лучше, чем раньше, понимал, почему ее ненавидит. За молодость, красоту и бесполость, за то, что хочет ее, но никогда не получит: ведь вокруг ее талии, словно приглашавшей к объятиям, обвивался лишь возмутительный красный пояс, символ агрессивного целомудрия.
Ненависть достигла высшей точки. Голос Гольдштейна перешел в настоящее овечье блеяние, а его лицо на мгновение стало овечьей мордой. Морда растаяла, уступив место огромной жуткой фигуре евразийского солдата с извергающим огонь автоматом. Он словно шел на зрителей и, казалось, вот-вот прорвет поверхность экрана, так что люди из первых рядов даже вжались в спинки стульев. Но в ту же секунду все облегченно выдохнули: фигуру врага сменил черноусый лик Старшего Брата, исполненный мощи и непостижимого спокойствия. Он был так огромен, что заполнил собой почти весь экран. Никто не слышал, что говорил Старший Брат. То были всего несколько ободряющих слов – такие произносят средь шума битвы, они неразличимы сами по себе, но внушают уверенность уже самим фактом произнесения. Затем лицо Старшего Брата растворилось и вместо него возникли набранные жирными прописными буквами три лозунга Партии:
ВОЙНА ЕСТЬ МИР
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА
Казалось, однако, что лик Старшего Брата не исчезал с экрана еще несколько секунд, словно оставил такой яркий след на сетчатке глаз, что не мог сразу померкнуть. Маленькая рыжеватая сотрудница рванулась вперед, чуть не опрокинув впереди стоящий стул. С трепетом нашептывая что-то вроде «Мой спаситель!», она протянула руки к экрану, а потом закрыла ими лицо. Казалось, она произносит молитву.
В это мгновение все зрители начали глухо, неспешно, ритмично скандировать: «Наш брат! Наш брат!» – снова и снова, очень медленно, выдерживая долгую паузу между «наш» и «брат». В низком рокоте голосов слышалось что-то неуловимо дикарское, будто ему сопутствовали топот босых ног и пульс тамтамов. Голоса не утихали с полминуты. Подхваченный ими рефрен часто звучал в особо эмоциональные моменты. Отчасти это своего рода гимн мудрости и величию Старшего Брата, но в еще большей степени – акт самогипноза, при котором сознание намеренно подавляется ритмичным звуком. У Уинстона похолодело внутри. Во время Минуты ненависти он не мог не разделить всеобщего безумия, но это первобытное скандирование – «Наш-брат-наш-брат» – всегда наполняло его ужасом. Конечно, он скандировал вместе с другими: иначе нельзя. Маскировать чувства, контролировать лицо давно стало инстинктом. Но в какой-то двухсекундный промежуток выражение глаз вполне могло выдать его. И как раз в этот момент случилось важное – а может, лишь почудилось.
На секунду он встретился взглядом с О’Брайеном. Тот поднялся с места, снял очки и как раз водружал их характерным жестом обратно на нос. Но их глаза встретились, и на это мгновение Уинстона посетила уверенность – да, именно уверенность! – что мысли О’Брайена сродни его собственным. Ошибки быть не могло – послание отправлено и получено, словно между ними открылся канал, по которому мысли перетекали от одного к другому через глаза. «Я с тобой, – казалось, говорил ему О’Брайен. – Я знаю, что ты чувствуешь. Все знаю о твоем презрении, ненависти, отвращении. Но не тревожься, я на твоей стороне!» Тут озарение угасло. Лицо О’Брайена стало таким же непроницаемым, как у остальных.
Вот и все. Уинстон уже сомневался, было ли это на самом деле. Такие эпизоды никогда не имели продолжения. Они лишь поддерживали в нем веру – или надежду, – что он у Партии не единственный враг. Может быть, слухи о подполье заговорщиков все же правда? Вдруг и Братство существует! Ведь невозможно, несмотря на бесконечные аресты, признания и казни, быть до конца уверенным, что Братство – не просто миф. Иногда Уинстон верил в его существование, иногда нет. Вместо доказательств он мог полагаться только на случайные проблески, которые могли что-то значить… или не значить ничего: обрывки подслушанных разговоров, полустертые каракули на стенах общественных туалетов, а однажды, при встрече двух незнакомцев, – едва заметный жест, похожий на условный знак. Оставалось лишь гадать: может, все это ему только чудится. Он вернулся в свою ячейку, больше не взглянув на О’Брайена. Поддержать возникший между ними контакт ему и в голову не приходило. Это было бы невообразимо опасно – даже знай он как. В течение секунды или двух они с О’Брайеном обменялись двусмысленными взглядами – вот и все. Но даже и это – уже незабываемое событие в его вынужденно одиноком, замкнутом мире.
Уинстон прервал раздумья, сел прямее. Джин подступал к горлу отрыжкой.
Глаза Уинстона снова сфокусировались на странице. Оказалось, пока он размышлял, его рука машинально продолжала писать и уже не так судорожно и неуклюже, как раньше. Перо привольно скользило по гладкой бумаге, выводя крупными, аккуратными прописными буквами:
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
– и так полстраницы.
В нем шевельнулся рефлекторный ужас – хотя бояться уже нелепо, ведь эти конкретные слова ничуть не опаснее, чем изначальное решение завести дневник. Но на какое-то мгновение у него возник соблазн вырвать испорченные страницы и вообще отказаться от задуманного.
Однако Уинстон этого не сделал, потому что понимал: бесполезно. Напишет ли он «Долой Старшего Брата» или удержится – никакой разницы. Думнадзор все равно до него доберется. Он совершил – и все равно совершил бы, даже не коснувшись пером бумаги, – базовое преступление, из которого проистекали все остальные. Криводум – вот как оно называлось. Криводум невозможно скрывать вечно. Какое-то время, даже не один год, можно изворачиваться, но рано или поздно до тебя доберутся.
Ночью, арестовывают неизменно ночью. Рывком из сна, грубая рука трясет за плечо, яркий свет в глаза, кольцо суровых лиц вокруг постели. В подавляющем большинстве случаев – никакого суда, никаких оповещений об аресте. Люди просто исчезают и всегда – в ночь. Имена вычеркиваются из списков, все следы стираются, само существование человека сначала отрицается, а потом забывается. Человека отменяют, обращают в ничто – «испаряют», так это принято называть.
На мгновение Уинстон впал в некое подобие истерики. Начал писать торопливо, неряшливо:
меня расстреляют ну и наплевать пустят пулю в затылок наплевать долой старшего брата они всегда стреляют в затылок наплевать долой старшего брата…
Уинстон откинулся на стуле. Ему стало немного стыдно за себя, и он отложил ручку. А в следующую секунду содрогнулся всем телом: в дверь постучали.
Уже! Он сидел тихо, как мышь, в напрасной надежде, что кто бы это ни был уйдет, не дождавшись ответа. Но нет, стук повторился. Тянуть время – хуже не придумаешь. Сердце Уинстона стучало, как барабан, но лицо по давней привычке ничего не выражало. Он поднялся и, тяжело ступая, направился к двери.
2.
Лишь взявшись за дверную ручку, Уинстон заметил, что оставил на столе открытый дневник, весь исписанный словами «Долой Старшего Брата», да так крупно, что их почти можно прочесть с другого конца комнаты. Невообразимая глупость. Он знал, однако, что даже в панике не захотел испачкать кремовую бумагу, захлопнув тетрадь, пока чернила еще не высохли.
Он втянул в себя воздух и открыл дверь. Тут же его накрыла теплая волна облегчения. Снаружи стояла бесцветная, погасшая женщина, морщинистая, с редкими волосами.
– Товарищ, – заныла она тоскливо, – не зря мне послышалось, что вы вернулись. Вы не зайдете к нам взглянуть на раковину в кухне? Засорилась она у нас, ну и…
Миссис Парсонс, жена соседа по этажу. (Слово «миссис» партия не очень-то одобряет, всех надо называть «товарищ», но к некоторым женщинам непроизвольно обращаешься так и никак иначе.) В свои примерно тридцать она выглядела намного старше. Казалось, в ее морщинах скопилась пыль. Уинстон пошел за ней по коридору. Ремонт подручными средствами – почти ежедневная морока. Апартаменты «Победа», где-то 1930 года постройки, постепенно разваливаются. С потолков и стен постоянно сыплется штукатурка, при каждом серьезном морозе лопаются трубы, крыша течет всякий раз, как выпадает снег, отопление работает в половину мощности, и то когда не отключено из экономии. На любой ремонт не своими силами требуется разрешение далекого начальства: так и оконное стекло можно вставлять два года.
– Я только потому прошу, что Тома сейчас нет, – вяло оправдывалась миссис Парсонс.
Квартира Парсонсов – побольше, чем у Уинстона, и тоже запущенная, но по-другому. Все здесь выглядит побитым, потрепанным, словно в квартире только что побывал большой разъяренный зверь. Повсюду валяется спортивный инвентарь – хоккейные клюшки, боксерские перчатки, лопнувший футбольный мяч, – а стол завален грязной посудой и растрепанными тетрадками. На стенах – алые знамена Молодежного союза и Лазутчиков, полноразмерный плакат со Старшим Братом. Пахнет, как и во всем здании, вареной капустой, но сквозь эту привычную вонь пробивается более резкий запах пота, и отчего-то сразу ясно, что источник этого запаха сейчас не дома. В другой комнате кто-то пытается с помощью расчески и клочка туалетной бумаги подыгрывать военному оркестру, все еще звучащему из телевида.
– Дети, – сказала миссис Парсонс, c некоторой опаской взглянув на дверь. – Они сегодня не выходили, вот и…
Она все время обрывала предложения на полуслове.
Раковина оказалась почти доверху наполнена мутной зеленоватой водой, от которой особенно сильно разило капустой. Уинстон опустился на колени и осмотрел сифон. Он терпеть не мог работать руками, да и нагибаться тоже – от этого его вечно разбирал кашель. Миссис Парсонс беспомощно глазела на него.
– Конечно, если бы Том был дома, он бы тут же все починил, – сказала она. – Он такое любит. Том у меня рукастый.
Парсонс, как и Уинстон, работал в Глависте: полноватый, но подвижный, глупый до оцепенения – кретин-энтузиаст, один из тех со всем согласных, беззаветных трудяг, на которых даже больше, чем на Думнадзоре, держалась Партия. В тридцать пять лет его помимо воли выставили из Молодежного союза, а прежде чем вступить в него, он умудрился год сверх положенного возраста проходить в Лазутчиках. В главке он занимал какую-то невысокую должность, не требовавшую мозгов, но при этом доказал свою незаменимость в спорткоме и других комитетах, отвечавших за походы, стихийные демонстрации, кампании экономии и прочую общественную деятельность. Между затяжками трубкой он мог поведать вам со скромной гордостью, что каждый вечер за последние четыре года посещал культурно-спортивный центр (КСЦ) и ни разу не пропустил. Сшибающий с ног запах пота, невольное свидетельство его активной жизненной позиции, шлейфом тянулся за ним повсюду и не выветривался даже в его отсутствие.
– Разводной ключ есть? – спросил Уинстон, мучаясь с гайкой на сифоне.
– Разводной ключ, – промямлила миссис Парсонс, сразу превращаясь в амебу. – Даже не знаю. Может быть, дети…
Послышался топот и трубный звук расчески – это дети ворвались в гостиную. Миссис Парсонс принесла разводной ключ. Уинстон спустил зеленоватую жижу и с отвращением извлек из трубы комок волос. Отмыв руки, как мог, холодной водой, он вышел в комнату.
– Руки вверх! – приветствовал его дикий вопль.