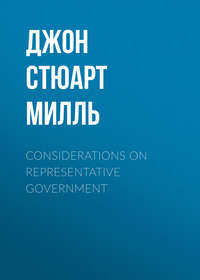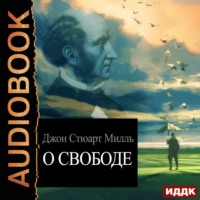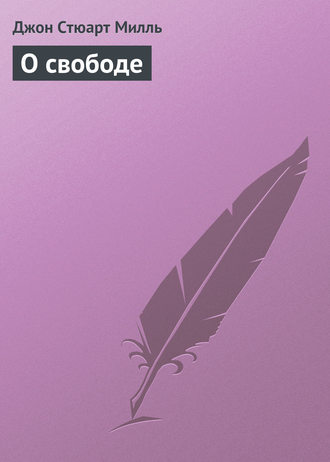
О свободе
Привычка постоянно исправлять и дополнять свое мнение через сравнение с мнениями других людей, не только не производить в человеке сомнения или колебания касательно применения своего мнения на практике, а напротив, составляет единственное прочное основание справедливого к нему доверия. Такой человек, который сознает, что внимательно выслушал все, что может быть сказано против его мнения, что тщательно проверил свое мнение со всеми возражениями своих противников, что не только не избегал, а напротив, искал возражений и затруднений, и с радостью ловил всякую мысль, которая могла разъяснить предмет, откуда бы эта мысль ни исходила, – такой человек имеет основание думать, что его суждение лучше, чем суждение другого человека или чем суждение толпы, которое не выдержало подобного процесса.
Нет ничего чрезмерного в этом требовании, чтобы пестрая коллекция индивидуумов, называемая публикой, в которой столь мало умных и столь много глупых людей, – чтобы эта публика по отношению к своим мнениям подчинялась тем же условиям, выполнение которых самые умные люди, имевшие более основания, чем кто-либо, полагаться на самих себя, считали, однако, необходимым для того, чтобы можно было довериться своему суждению. Даже римско-католическая церковь, которая отличается большею нетерпимостью, чем какая-либо другая, – даже и эта церковь прежде чем канонизировать святого, дает слово «адвокату дьявола» и терпеливо выслушивает его. Самые святые люди, по-видимому, не иначе могут быть удостоены подобающих им посмертных почестей, как когда выслушано и взвешено все, что может сказать против них дьявол. Если бы было запрещено критиковать философию Ньютона, то человечество не могло бы иметь в ее истинности такой полной уверенности, какую теперь имеет. Для нас не существует никакого другого ручательства в истинности какого бы то ни было мнения, кроме того, что каждому человеку представляется полная свобода доказывать его ошибочность, а между тем ошибочность его не доказана. Если вызов на критику не принять, или если принять, но критика оказалась бессильной, то это еще нисколько не значит, что мы обладаем истиной, – мы можем быть еще очень далеко от истины, но, по крайней мере, мы сделали все для ее достижения, что только могло быть сделано при настоящем состоянии человеческого понимания, – мы по крайней мере не пренебрегли ничем, что могло раскрыть нам истину, и если поле для критики остается открытым, то мы можем надеяться, что ошибки, какие есть в нашем мнении, будут раскрыты для нас, как только ум человеческий сделается способен к их раскрытию, а покамест имеем основание думать, что настолько приблизились к истине, насколько это возможно для нас в данную минуту. Вот только до какой степени человек достигает знания истины, и вот единственный путь, которым он может достигать этого знания.
Странно, что люди обыкновенно признают значение аргументов, приводимых в пользу свободной критики, и в тоже время упрекают аргументаторов «в крайности выводов», – странно, как они не видят, что если аргументы не доказывают крайних выводов, то и ровно ничего не доказывают. Странно, каким образом могут утверждать, что не имеют никакого притязания на непогрешимость те люди, которые допускают свободную критику только относительно предметов сомнительных и отрицают ее относительно известных принципов или доктрин на том основании, что эти принципы или доктрины несомненны, т. е. на том основании, что для них несомненна их истинность. Признавать что-либо несомненным и запрещать опровержения, когда оказывается хотя один человек, желающий опровергать, – не значит ли это себя и тех, кто с ними одного мнения, признавать судьями несомненности, и притом такими судьями, которые судят, не выслушав противной стороны.
В наш век, который обыкновенно описывают как лишенный веры и вместе с тем напуганный скептицизмом, люди не столько уверены в истинности своих мнений, сколько в том, что не знали бы, что делать, если бы их не имели; в наш век притязание какого-либо мнения на охрану от гласной критики основывается собственно не на его истинности, а скорее на значении его для общества. Утверждают, что некоторые верования столь полезны, чтоб не сказать необходимы для общего блага, что охранять их для правительства не менее обязательно, как и охранять какие-либо другие общественные интересы, – что когда грозит опасность верованиям, которые имеют важное значение для общественного блага и, следовательно, которых охранение составляет прямую обязанность правительства, то правительства не только могут с полным основанием, но даже обязаны действовать по своему мнению, подтверждаемому общим мнением людей, и для оправдания своих действий не нуждаются в притязании на непогрешимость. Часто утверждают, и еще чаще думают, что только одни злые люди могут желать ослабления благодетельных для общества верований, и что, следовательно, нет ничего дурного принимать меры против злых людей и воспрещать им то, чего только они одни и желают. Такой взгляд ставит оправдание ограничений свободы критики в зависимость не от истинности охраняемых доктрин, а от их полезности, и сторонники этого взгляда воображают себе, что они таким образом отстраняют от себя упрек в притязании быть непогрешимыми судьями мнений, – они не видят, что такой взгляд не отстраняет притязания на непогрешимость, а только перемещает его с одного пункта на другой. Полезность какого-либо мнения есть также предмет суждения, и предмет столь же спорный, также подлежащий критике и также нуждающийся в критике, как и самое мнение. Утверждать, что такое-то мнение вредно и на этом основании лишать его свободы высказываться, – предполагает такое же притязание на непогрешимость, как если бы дело шло не во вред или пользе мнения, а об его истинности или ложности. Неправильно утверждать, что будто может быть дозволено доказывать пользу или безвредность мнения, и запрещено только доказывать или опровергать его истинность, потому, что истинность мнения составляет всегда существенную часть его полезности. Желая знать, желательно или не желательно, чтобы такое-то мнение было общепризнанно, можем ли мы не принять при этом в соображение, истинно оно или ложно? По мнению не дурных, а лучших людей, никакое верование, противное истине, не может быть полезно, и когда эти люди отрицают какую-нибудь доктрину, которую вы признаете полезною, а они признают ложною, то на каком основании можете вы запретить им доказывать, что ложное не может быть полезно? Люди, держащиеся охраняемого вами мнения, разве не пользуются этим аргументом, а ведь вы не находите же дурным, что они не отделяют вопрос о пользе от вопроса о истинности! Полезность или необходимость признания какой-либо доктрины не доказывается ли главным образом тем, что эта доктрина есть истина? Если этот самый существенный аргумент в вопросе о полезности той или другой доктрины дозволителен только одной стороне, а не дозволителен другой, то при таких условиях спор невозможен. И в самом деле, когда закон или общественное чувство не дозволяют оспаривать истинность какого-либо мнения, не с одинаковою ли нетерпимостью относятся они и к отрицанию его полезности? Смягчать его абсолютную необходимость или положительную преступность его отрицания – вот крайние пределы того, что они считают дозволительным.
Чтоб выставить еще с большею ясностью, какое это великое зло – не дозволять выражаться мнениям на том основании, что мы считаем их вредными, я перенесу наш спор с общего тезиса на частные применения и возьму для примера те именно применения, которые для меня наименее благоприятны, в которых аргумент против свободы мнений, как по отношению к истинности, так и по отношению к пользе, признается наиболее сильным. Возьмем для примера веру в Бога, веру в будущую жизнь, или какую хотите самую общепризнанную нравственную доктрину. Я очень хорошо знаю, что перенося спор на такую почву, даю против себя большое преимущество недобросовестному противнику, который без сомнения скажет (а вслед за ним повторят и другие, хотя и не по недостатку добросовестности): «Разве вы считаете эти доктрины недостаточно несомненными, чтобы закон мог взять их под свое покровительство? Уж не принадлежит ли по вашему и вера в Бога к числу таких мнений, которые нам недозволительно считать несомненными, потому что это значило бы, – как вы говорите, – признавать себя непогрешимым?» Позволю себе заметить на это, что я вовсе не считаю убеждения в истинности какого бы то ни было мнения или доктрины притязанием на непогрешимость, – я говорю только, что решать какой бы то ни был вопрос за других и не дозволять им выслушивать возражения на это решение – значит признавать себя непогрешимым судьей этого вопроса, а такое притязание я осуждаю и протестую против него со всей энергией, хотя бы им охранялись и самые дорогие для меня убеждения. Как бы ни было сильно в человеке убеждение не только в ложности, но и во вредности, – не только во вредности, но и (употребляя обыкновенные в этом случае выражения, значение которых я совершенно отрицаю) в безнравственности и нечестии какого-либо мнения, и если бы даже это убеждение касательно этого мнения разделялось его страной или его современниками, – во всяком случае, лишить это мнение свободы высказываться будет с его стороны притязанием на непогрешимость. И такое притязание не только не менее опасно и не менее предосудительно, потому что относится к такому мнению, которое признается безнравственным и нечестивым, а напротив, в этих случаях оно еще более бедственно, чем в каких-либо других. В таких-то случаях именно и совершались людьми те страшные ошибки, которые составляют предмет удивления и ужаса для потомства; к таким именно случаям и относятся те достопамятные примеры истории, когда сила закона употреблялась на гибель самых лучших людей и на искоренение самых великих доктрин. Преследования людей увенчивались к несчастью полным успехом, и люди гибли; но некоторым доктринам удалось пережить преследование, и теперь на это ссылаются (как будто в насмешку) для оправдания преследования мнений, которые не согласны с этими доктринами, или не согласны с общепринятым их толкованием.
Никогда не излишне напомнить людям, как бы часто это им ни напоминали, что жил когда-то человек по имени Сократ, которого легальные власти и общественное мнение убили, как преступника. По общему свидетельству, та эпоха и та страна, к которым он принадлежал, были богаты индивидуальным величием, а сам он был самым добродетельным человеком своего времени. Мы знаем, что он – глава и прототип всех великих учителей добродетели, которые только были после него, что он виновник высокого вдохновения Платона и утилитаризма Аристотеля «i maestri di color che sannio», что он учитель этих двух творцов как этической, так и всякой другой философии. И что же! этот великий человек, которого все бывшие после него великие мыслители признавали своим учителем, которого слава постоянно росла в течение двух тысячелетий и превосходит славу всех других, прославивших его отечество, – этот человек приговорен был к смерти и казнен своими согражданами за безнравственность и нечестие. Он был виновен в нечестии, потому что отрицал богов, которых признавало его государство; обвинитель его утверждал, что он не верует ни в каких богов. Он был виновен в безнравственности, потому что его учения и его наставления «развращали юношество». Мы имеем полное основание думать, что суд совершенно добросовестно признал виновным в этих преступлениях самого лучшего из людей и осудил его на смерть, как преступника.
Но есть еще пример судебной несправедливости, единственный впрочем, на который можно указать даже и после осуждения Сократа, не отступая от правильной аргументации, не переходя от более сильного аргумента к менее сильному. Я говорю о том событии, которое совершилось назад тому восемнадцать столетий. Люди не только узнали своего благодетеля, – они признали Его чудовищем нечестия, поступили с Ним, как со злодеем, и через это сами потом стали примером нечестия самого чудовищного.
Увлекаясь теми чувствами, которые в настоящее время возбуждают оба приведенные нами события, особенно же последнее из них, – люди обыкновенно судят крайне несправедливо о виновниках этих событий. Судя по всему, это были не дурные люди, – они были не хуже, чем какими люди обыкновенно бывают, а скорее даже лучше, это были люди вполне, или, может быть, даже несколько чрезмерно, проникнутые религиозными, нравственными и патриотическими чувствами своего времени и своего народа, – они принадлежали к разряду тех людей, которые во все времена, не исключая и нашего, наиболее способны прожить свой век безупречно и пользуясь общим уважением. Когда первосвященник разодрал на себе одеяние, услышав такие слова, которые, по понятиям его страны, составляли самое черное из преступлений, то его ужас и его негодование были, по всей вероятности, не менее искренны, чем нравственные и религиозные чувства благочестивых и достойных людей нашего времени, – и многие из тех, которые теперь приходят в ужас при мысли о Распятом, если бы жили в те времена и родились евреями, то сделали бы то же самое, что сделал первосвященник. Не должны забывать те православные, которые думают, что они лучше тех людей, которые побили камнями первых мучеников, – не должны они забывать, что между бросающими каменья был и Святой Павел.
Приведу еще один пример, самый поразительный из всех, если только поразительность заблуждения измеряется мудростью и добродетелью того, кто в него впадает. Если когда-либо человек, облеченный властью, имел основание считать себя лучшим и самым просвещеннейшим из своих современников, то таковым был, без сомнения, император Марк Аврелий. Будучи неограниченным властелином всего цивилизованного мира, он всю свою жизнь был не только человеком самой безупречной справедливости, но – чего менее можно было ожидать от его стоического воспитания – и человеком самого нежного сердца. Все те немногие ошибки, которые ему приписываются, происходили от его снисходительности. Сочинения его составляют самое высокое этическое произведение древнего ума, и если представляют какое различие от христианского учения, то самое незначительное. И этот человек, который был лучшим христианином во всех отношениях (за исключением только догматического смысла этого слова), чем многие когда-либо бывшие, собственно так называемые, христианские государи, и этот человек преследовал христианство Находясь на такой умственной высоте, какую только делали достижимой все предшествовавшие судьбы человечества, будучи ума самого чуткого и самого либерального, обладая таким характером, что был способен в своих сочинениях возвыситься даже до христианского идеала, он при всем этом не понял, что христианство – благо для мира, а не зло. Он сознавал, что общество находится в самом плачевном состоянии; но как ни было дурно это состояние, он видел, или воображал, что видит, что если еще общество сколько-нибудь держится и не впадает в состояние еще более худшее, то благодаря вере и уважению к признанным божествам. Как правитель, он считал своею обязанностью охранять общество от окончательного распадения, и не понимал каким бы образом оно могло существовать, если бы основы, на которых оно держалось, были ниспровергнуты. А между тем новая религия открыто стремилась к ниспровержению этих основ. Следовательно, если только он не сознавал своим долгом признать эту религию, то ему должно было представляться очевидным, что его прямой долг ее уничтожить. Христианская теология не убедила его в своей истинности или в божественности своего происхождения; вся эта странная история о распятом Боге была для него невероятна, и он не мог предвидеть, чтобы система, основанная на том, что для него было совершенной небылицей, имела столь великую живительную силу, какую потом обнаружила, – и таким образом самый лучший и самый добрый из философов и правителей, следуя очевидному для него указанию долга, сделался гонителем христианства. По моему мнению, это одно из самых трагических событий во всей истории.
Во всяком случае противно было бы справедливости и противно истине не признать, что Марк Аврелий имел для преследования христиан все основания, какие только могут быть представлены для преследования любого антихристианского учения. Из всех людей, живших в то время, Марк Аврелий был более способен, чем кто-либо, понять христианство, а между тем он был убежден, что христианство есть ложь, что оно стремится к разрушению общества, и убеждение его было не менее искренно, чем вера христианина в ложность и антиобщественность атеизма. Мы можем по крайней мере сказать противникам свободы мнения: если вы не считаете себя людьми более умными и более добродетельными, чем Марк Аврелий, – если вы не признаете за собой, чтоб вы в большей степени, чем Марк Аврелий, обладали всею мудростью своего времени, и более высоко, чем он, стояли над своим веком, – если вы не сознаете, чтобы вас одушевляла более пламенная любовь к истине и более пламенная к ней преданность, чем какая одушевляла Марка Аврелия, – то воздержитесь от преследования мнений, подумайте о том, к каким бедственным последствиям вера в непогрешимость своего мнения и мнения толпы привела великого Антонина.
Будучи обличены в невозможности привести какой-либо аргумент в свою защиту, который бы в то же время не оправдывал и Марка Аврелия, враги религиозной свободы бросаются нередко в другую сторону для оправдания религиозных преследований и вместе с Джонсоном утверждают, что гонители христианства были правы, – что гонение есть испытание, через которое должна проходить истина и из которой она всегда выходит торжествующей, – что все преследования, в конце концов, оказываются бессильными против истины и, к счастью людей, действительны только против вредных заблуждений.
Этот аргумент в пользу религиозной нетерпимости довольно замечателен, чтобы его можно было обойти молчанием.
Такая доктрина, которая оправдывает преследование истины тем, что против истины бессильно всякое преследование, – такая доктрина, конечно, не может быть обвинена в преднамеренной враждебности к новым истинам, но мы не можем согласиться, чтобы она отличалась великодушием по отношению к тем людям, которые являются их возвестителями. Открыть людям то, чего они прежде не знали и что для них в высшей степени важно, – доказать им, что они ошибались в чем-либо таком, что имеет существенное значение для их временных или духовных интересов, это самая великая заслуга, какую только человек может оказать своим ближним, и те, которые разделяют мнение Джонсона, признают, что первые христиане и реформаторы оказали человечеству самую величайшую услугу, какая только возможна. И что же! Если этих благодетелей человечества, в воздаяние за их благодеяние, предают мучительной смерти, если с ними поступают, как с самыми последними злодеями, то это не есть заблуждение, не есть бедствие, которое человечество должно было бы оплакивать, посыпав главу пеплом, а напротив, по доктрине Джонсона, это факт совершенно нормальный! Признать такую доктрину – не все ли это равно, как если бы мы признали, что с тем человеком, который возвещает новую истину, следует поступить так, как локрийцы поступали с тем, кто предлагал новый закон, – надеть ему веревку на шею и задушить его, если его предложение не будет немедленно же принято. Людей, которые защищают подобную доктрину, нельзя, конечно, заподозрить, чтобы они слишком высоко ценили то благодеяние, которое оказывают человечеству возвестители новых истин, и я полагаю, что признавать такую доктрину могут только те люди, которые находят, что если и было время, когда желательны были новые истины, то теперь это время уже прошло.
Изречение, что истина всегда торжествует над преследованием, принадлежит к числу тех странных заблуждений, которые так охотно повторяются людьми, что обращаются наконец для них в обиходную истину, несмотря на все опровержения, какие встречаются против них в действительной жизни. История богата примерами, как преследование заставляло безмолвствовать истину, и если не истребляло ее навсегда, то, по крайней мере, отдаляло ее торжество на целые столетия. Ограничусь указанием на предисторию религиозных мнений. Реформация, по крайней мере, двадцать раз начиналась еще до Лютера, и каждый раз была задавлена. Арнольд из Брешии, Фра-Дольчино, Савонарола, альбигойцы, вальденцы, лолларды, гуссисты – разве все они не были задавлены! Даже и после Лютера преследование было везде успешно, где только велось настойчиво. В Испании, Италии, Фландрии, в Австрийской империи протестантизм был вырван с корнем; то же самое случилось бы вероятно и в Англии, если бы королева Мария жила подольше, или королева Елизавета умерла пораньше. Преследование всегда удавалось там, где еретики не составляли из себя довольно сильной партии, чтобы противостоять преследованию. Ни один рассудительный человек не сомневается в том, что в Римской империи христианство могло быть истреблено до корня, – что если оно уцелело и потом восторжествовало, то единственно потому, что преследования были случайны, кратковременны, с большими промежутками, а пропаганда почти совершенно свободна. Следовательно, это не более, как только пустое сентиментальничанье утверждать, что будто истина, потому уже, что она – истина, обладает такою присущей ей силою, которой не имеет заблуждение и против которой бессильны и тюрьмы, и костры. Обыкновенно бывает так, что люди служат истине не с большею ревностью, чем с какою служат и заблуждению. Преследование со стороны властей или даже только со стороны общественного мнения действует одинаково успешно против всякой пропаганды, будет ли иметь эта пропаганда своею целью распространение того, что истинно, или того, что ложно. Существенное в этом отношении преимущество истины над заблуждением состоит только в том, что, будучи задавлена, истина всегда имеет вероятность, что с течением времени явятся люди, которые снова вызовут ее к жизни, и что одно из таких ее возрождений совпадет когда-либо с известными условиями, которые позволят ей, хотя на время, избежать преследований и достаточно окрепнуть, чтобы потом быть в состоянии выдержать преследование.
Нам могут сказать, что в настоящее время не предают уже смерти проповедников новых мнений, не казнят пророков. Правда, – еретиков уже более не казнят, правда, – чувства, господствующие в современных обществах, едва ли потерпят чтобы преследование какого бы то ни было мнения, даже самого ненавистного, переходило далее известных пределов, а преследование в этих пределах едва ли может быть довольно действительно, чтобы совершенно искоренить какое-нибудь мнение. Но это было бы с нашей стороны лестью самим себе, если бы мы стали утверждать, то в наше время закон уже не преследует людей за то, что они имеют то или другое мнение, что мы уже совершенно освободились от этого позора. У нас до сих пор еще существуют законы, которые определяют наказание за мнение, или по крайней мере за выражение мнения, и законы эти не до такой степени потеряли свое значение, применение их не до такой степени беспримерно даже и в наше время, чтоб мы могли считать совершенной невероятностью, чтоб они когда-либо ожили с полной силой. На летних ассизах в 1857 г., в графстве Корнуолл, человек[1] безупречного (как говорят) во всех отношениях поведения был приговорен к заключению в тюрьму на двадцать один месяц за то, что написал где-то на дверях какие-то слова, оскорбительные будто бы для христианства. Около того же времени в Ольд-Бейли, в двух отдельных случаях двое[2] не были допущены до исполнения обязанности присяжных, потому что прямо объявили, что не имеют никакой веры, при чем один из них был грубо оскорблен судьей и одним из членов суда. Одному иностранцу[3] по той же причине отказано было в правосудии против вора. Этот отказ в правосудии сделан был на основании той легальной доктрины, что никто не может быть допущен до свидетельства в суде, кто не верит в Бога и в будущую жизнь. Но равносильно ли это тому, как если бы прямо было признано, что люди, не верующие в Бога и в будущую жизнь, стоят вне закона и лишаются покровительства судов, – что можно безнаказанно грабить и оскорблять не только их самих, но и всех других людей, если только бывшие при этом свидетели не имеют известных мнений. Доктрина эта имеет своим основанием то предположение, что клятва человека неверующего в будущую жизнь, не имеет никакой цены. Предположение это обнаруживает в его защитниках крайнее неведение истории. Можно ли не знать, что по большей части те люди, которые своими добродетелями и своими благими стремлениями заслужили себе самую чистую славу, были неверующие, как это свидетельствуют близко их знавшие. Кроме того надо заметить, что эта доктрина сама в себе носит свое осуждение, сама разрушает свою собственную основу; исходя из того предположения, что атеисты – лжецы, она допускает к свидетельству тех атеистов, которые в самом деле лгут, и не допускает только тех, которые довольно честны, чтобы не лгать, и предпочитают лучше подвергнуть себя всем тяжелым последствиям, какие имеет для них честное выражение их убеждений. Доктрина, основанная на таком предположении, есть, без сомнения, нечто иное, как выражение ненависти, как орудие преследования, и при том – орудие, имеющее ту отличительную особенность, что человек навлекает его на себя именно тем самым своим действием, которое, наоборот, представляет очевидное доказательство, что он такого преследования не заслуживает: человека признают лжецом за то самое его действие, которое, напротив, свидетельствует о его честности. Едва ли эта доктрина столько же неосновательна и по отношению к верующим, как и по отношению к неверующим: если тот, кто не верит в будущую жизнь, необходимо должен быть лжецом, то из этого следует, что тот, кто верит, не лжет только потому – если в самом деле не лжец – что боится ада. Мы не хотим оскорблять виновников и приверженцев этой доктрины, – мы не хотим предполагать, чтобы такое понятие о христианской добродетели имело своим источником их личное сознание, – мы готовы признать, что это не более, как лохмотье, обрывок прежнего времени, на который следует смотреть скорее не как на признак желания преследования, а как на один из примеров того, столь часто встречающегося у англичан, умственного недостатка, что они находят какое то странное удовольствие упорно отстаивать какой-нибудь дурной принцип, хотя сами давно уже стали не так дурны, чтобы желать действительного его применения. Но, к несчастию, умственное состояние современного общества не представляет нам никаких ручательств, чтобы самые даже худшие орудия легального преследования не могли быть снова употреблены в дело. Те попытки, которые в наш век, по временам, хотя на поверхности несколько смущают невозмутимую тишь и гладь рутины, – эти попытки столь же часто имеют своею целью восстановление прежних зол, как и достижение какого-либо нового блага. То, что в настоящее время обыкновенно превозносится как возрождение религии, на самом деле в узких и неразвитых умах есть столько же возрождение религии, как и возрождение фанатизма; в чувствах нашего народа до сих пор существует сильная закваска нетерпимости, которой всегда отличались наши средние классы, и немного надо, чтобы вызвать эти чувства на преследование тех мнений, которые, собственно говоря, наше общество и не переставало никогда считать заслуживающими преследования.[4] Именно в этом, т. е. в мнениях и чувствах, которые преобладают в нашем народе по отношению к людям, не разделяющим тех его верований, которые он считает наиболее важными, – именно в этом и заключается причина, почему Англия до сих пор еще не стала страной умственной свободы. У нас давно уже главное зло легальных преследований и состоит именно в том, что эти преследования на самом деле суть не что иное, как исполнение приговоров самого общества. В нетерпимости нашего общества и заключается главное зло, – зло столь сильное, что мы чаще встречаем в других странах выражение мнений, которые там влекут за собой судебное преследование, чем в Англии выражение таких мнений, которые хотя и не влекут за собой легальные кары, но осуждаются обществом. За исключением людей, имеющих также средства к существованию, которые ставят их в совершенную независимость от других, за этим исключением для всех остальных людей осуждение общества равносильно легальной каре, – тут вся разница в том, что людей не сажают за мнения в тюрьму, а лишают их насущного хлеба. Что же касается до тех, которые имеют совершенно обеспеченные средства к существованию и в этом отношении не нуждаются в благосклонности к ним других людей или общества, то такие люди, высказывая какое бы то ни было мнение, ничем иным не рискуют, как разве только тем, что о них будут дурно думать, дурно говорить. Такой риск, конечно, не предполагает никакого особенного героизма со стороны тех, кто ему подвергается, – тут еще нет, конечно, такого зла, ради которого можно было бы взывать ad misericordiam. Однако заметим при этом, что хотя мы теперь уже и не подвергаем тех, кто с нами не согласен, таким сильным карам, каким подвергали их прежде, но наш теперешний образ действия по отношению к ним едва ли не причиняет нам самим не меньший вред, чем какой когда-либо причиняли всевозможные преследования. Сократ был предан смерти, но философия Сократа, как солнце, взошла и осветила весь умственный горизонт человечества. Христиан бросали на съедение львам, но христианская церковь выросла могучим, величественным деревом, которое переросло все старые деревья и заглушила их своею тенью. Наша нетерпимость, чисто общественная, не убивает людей за мнения, не вырывает мнения с корнем, но она производит то, что люди скрывают свои мнения, или воздерживаются от всякого деятельного усилия к их распространению: в наш век, не так как прежде, мы не видим, чтобы каждое десятилетие или с каждым новым поколением заметно усиливались или слабели те или другие еретические мнения. Теперь эти мнения никогда не горят широким и ярким светом, а только тлеют в тесных кружках людей науки и мысли, где получают свое происхождение, – общее течение дел человеческих не озаряется более новыми лучами света, ни истинными, ни ложными. Такой порядок вещей многие находят совершенно удовлетворительным, так как он охраняет внешний покой господствующих мнений, не прибегая для этого к неприятной процедуре – сажать людей в тюрьмы или подвергать их каким-либо карам, и в то же время не запрещать совершенно деятельность мысли тем людям, которые страдают болезнью – мышления: он сохраняет покой в умственном мире и предоставляет наиболее ручательств, что и завтра все будет идти так же, как шло сегодня. Но поклонники этого порядка вещей забывают, какой дорогой ценой покупается это умственное замирение: ради него мы жертвуем всем нравственным мужеством человеческого ума. Такие условия жизни, когда самые деятельные и самые пытливые умы находят нужным скрывать настоящие принципы и основания своих убеждений и, обращаясь к обществу, связывать свои убеждения с такими посылками, от которых внутренне давно уже отреклись, – такие условия жизни не могут, конечно, образовать таких прямых, мужественных характеров, таких сильных, логических умов, какими некогда славился умственный мир. При этих условиях мы находим только таких людей, которые раболепствуют перед тем, что существует, – или же только таких прислужников истины, которые не служат истине прямо теми аргументами, которые убедили их самих, а соображают свою аргументацию с требованиями своих слушателей. Те же люди, которые не могут раболепствовать, или которые не хотят подчинять истину требованиям толпы, – те люди вынуждены суживать свои мысли и стремления такими предметами, о которых можно говорить, не затрагивая принципов, т. е. теми мелкими практическими предметами, которые сами собой нашли бы свое разрешение при сильной и широкой умственной жизни, и которые не могут достигнуть разрешения, пока люди не будут прямо и смело относиться ко всем великим вопросам человеческой жизни, потому что без этого невозможна сколько-нибудь сильная и широкая умственная жизнь.