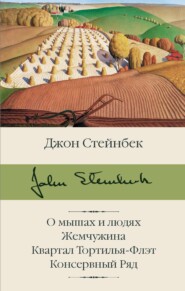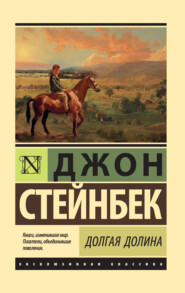По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Золотая Чаша
Автор
Жанр
Год написания книги
1929
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Роберт улыбался крепко сжатыми губами. Иногда он обращал взгляд на сына, привставшего на колени у очага. Генри был как натянутая струна и жадно впитывал каждое слово. Когда Роберт заговорил, он не смотрел на Дафида.
– Твоя душа изнемогает под тяжким бременем, – сказал он. – Утром откройся священнику. А в чем – знать не мне.
– Нет, душа тут ни при чем, – торопливо возразил Дафид. – В Индиях душа сразу же испаряется из человека и остается на ее месте одна какая – то сухость, и все словно сморщивается. Никакая это не душа, а отрава, что у меня в крови и в мозгу, Роберт. Из – за нее я и зарастаю плесенью, как лежалый апельсин. Ползучие твари и ночные летуны, которых приманивает в темноте твой костер, и большие бледные цветы – они там все ядовитые. И обрекают человека на неслыханные муки. Вот даже сейчас кровь скользит по моим жилам, точно ледяные иголки, а ведь я сижу перед жарким огнем. И все это, все из – за сырого и смрадного дыханья зарослей. Ты в них и не живешь вовсе, но стоит уснуть там или просто прилечь, как они дохнут на тебя и погубят. А коричневые индейцы… да ты погляди! – Дафид закатал рукав, и Роберт с омерзением, знаком попросил его поскорее одернуть рукав, закрыть жуткую белую язву, которая разъедала ему локоть.
– А ведь стрела только чуточную царапинку оставила, и не разглядеть было. Но уложит она меня в могилу до срока, уж я знаю. И отрава во мне не только эта. Там даже люди и те ядовитые. У матросов есть такая песня…
Юный Генри возбужденно перебил его.
– А индейцы? – вскричал он. – Индейцы и их стрелы? Расскажи про них! Они много воюют? Какие они из себя?
– Воюют? – повторил Дафид. – Воюют они все время. Воюют из любви к этому делу. Если на испанцев не нападают, так убивают друг друга. Гибкие они, точно змеи, быстрые, бесшумные и коричневые, как хорьки. И будто сквозь землю проваливаются, едва начнешь в них целиться. Но народ они храбрый и крепкий, и ничего не боятся, кроме собак и рабства! – Дафид все больше увлекался своим рассказом. – Знаешь, малый, что они делают с тем, кого захватят в стычке? Утыкают его с ног до головы длиннющими колючками, а на конец каждой колючки надевают комок пуха вроде мотка шерсти. И стоит бедняга пленный в кольце голых дикарей, и они поджигают пух. И тот индеец, который не запоет, пока горит, как факс*, будет проклят и объявлен трусом. Можешь ты вообразить, чтобы на такое был способен белый? А вот собак они боятся, потому что испанцы охотятся на них с большущими волкодавами, чуть им потребуются новые рабы для рудников. Ну, индейцам – то рабство хуже смерти. Скуют попарно, загонят в сырое подземелье, и так год за годом, год за годом, пока не уморит их болотная лихорадка. Вот и рад всякий из них запеть, когда загорятся колючки, и умереть в огне.
Дафид замолчал и протянул худые руки к очагу, почти погрузив их в пламя. Свет, вспыхнувший было в его глазах, пока он говорил, вновь угас.
– Устал я, Роберт, так устал! – сказал он со вздохом. – Но не лягу спать, пока не открою тебе одного. Может, тогда мне легче станет, может, выговорюсь и забуду хоть на эту ночь. Не могу я теперь жить вдали от зарослей, от их жаркого дыхания. Ведь тут, где я родился, меня бьет озноб и я все время мерзну. Так мне и месяца не протянуть. Наша долина, где я родился, вырос, трудился, изгоняет меня в смрадную геенну. Очищается от меня морозом. А теперь, не найдется ли у тебя для меня постели, и с толстым одеялом, чтобы моя бедная кровь не застыла вовсе? Утром я отправлюсь в путь. – Он умолк, и лицо его сморщилось, словно от боли. – А как я любил зиму!
Старый Роберт проводил его, поддерживая под локоть, потом вернулся и снова сел у огня. Он поглядел на юношу, который снова неподвижно вытянулся у очага.
– О чем ты думаешь теперь, мой сын? – немного погодя спросил он негромко. И Генри оторвал глаза от дальних земель по ту сторону огня.
– О том, отец, что мне надо поскорее уйти из дома.
– Я знаю. Генри. Весь этот год я смотрел, как желание уйти растет в тебе, точно крепкий дубок, – уехать в Лондон, в Гвинею, на Ямайку, все равно куда, лишь бы уехать. Потому что тебе пятнадцать лет, потому что ты силен и жаждешь новизны. Когда – то и для меня долина становилась все уже, все теснее, пока, мне кажется, немножко меня не задушила. Но разве тебя не пугают тяжелые ножи, мой сын? И яды, и индейцы? Они не внушают тебе страха?
– Не – ет, – медленно произнес Генри.
– Да, разумеется. С какой стати? Все эти слова для тебя лишены смысла. Но печаль Дафида, его муки, его больное, изможденное тело – разве они тебя не пугают? Неужели ты хочешь скитаться по свету с такой тяжестью на сердце?
Юный Генри надолго задумался.
– Таким я не стану, – сказал он наконец. – Буду часто возвращаться домой, чтобы моя кровь осталась здоровой.
Его отец продолжал мужественно улыбаться.
– Когда ты хочешь отправиться в путь, Генри? Без тебя тут будет очень пусто.
– Да как можно скорее, – ответил Генри, точно он был взрослым мужчиной, а Роберт – маленьким мальчиком.
– Генри, но прежде я попрошу тебя о двух одолжениях. Подумай сегодня о долгих бессонных ночах, которые предстоят мне из – за тебя, и о том, какими горькими будут мои дни. И о том, как твою мать будут часами терзать мысли, что ты весь обносился и забываешь молиться на ночь. Это, во – первых. Генри. А во – вторых, поднимись завтра на Вершину к старому Мерлину, расскажи ему, что ты задумал уйти, и выслушай его. Он мудр – ни мне, ни тебе никогда не обрести такой мудрости. И ему ведомо колдовство, которое может сослужить тебе службу. Ты сделаешь это ради меня, мой сын?
Генри сказал грустно:
– Я бы остался, отец, но ведь ты знаешь…
– Да, мальчик, – Роберт кивнул. – На горе себе я знаю. А потому не могу ни рассердиться, ни приказать тебе остаться. Хотя и предпочел бы запретить тебе даже думать об этом и высечь тебя в убеждении, что поступаю так для твоего же блага. Но иди ложись, Генри, и в темноте думай, думай, думай!
Юноша ушел, а Старый Роберт остался сидеть в кресле.
«Почему люди вроде меня хотят иметь сыновей? – размышлял он. – Наверное, в наших бедных искалеченных душах живет надежда, что эти юноши, в которых течет наша кровь, сумеют совершить все, чего сделать нам самим не хватило сил, или ума, или мужества. Так, словно тебе даруют еще одну жизнь, словно, проигравшись дотла за столом удачи, ты находишь в кармане еще один туго набитый кошелек. Быть может, мальчик поступает так, как следовало бы много лет назад поступить мне, если бы у меня достало мужества. Да, долина меня и, правда, задушила. И я рад, что у моего сына есть силы вырваться из кольца гор и выйти в широкий мир. Но здесь… здесь без него будет так пусто!»
II
На следующее утро Старый Роберт вернулся из своего розового сада очень поздно, и жена, подметавшая комнату, неодобрительно посмотрела на его выпачканные в земле руки.
– Он хочет уехать сразу же, мать, – неуверенно произнес Роберт.
– Кто это хочет уехать и куда? – Она продолжала орудовать метлой. Быстрые любопытные прутья выгоняли пыль из углов и щелей между половицами, перегоняли ее облачка на открытое место.
– Да Генри же] Он хочет сейчас же уехать в Индии.
Она прервала свое занятие и поглядела на него.
– В Индии! Послушай, Роберт… А, глупости все это! – закончила она, и метла еще энергичнее замелькала по полу.
– Я уже давно видел, как в нем росло это желание, продолжал Роберт. – А тут явился Дафид со своими рассказами. Вчера вечером Генри сказал мне, что уезжает.
– Так он же еще малолетка! – отрезала Матушка Морган. – Какие там Индии!
– Когда Дафид ушел с зарей, в глазах мальчика была жажда, которой ему никогда не утолить, даже если он и отправится в Индии. Неужели ты не замечала, мать, как его глаза все время смотрят за горы на что – то, чего он жаждет?
– Да нельзя же ему ехать! Нельзя!
– Ничего не поделаешь, мать. Огромная пропасть лежит между моим сыном и мной, но не между мной и моим сыном. Не знай я, какой голод его гложет, я, возможно, запретил бы ему покидать дом и он бежал бы тайком со злобой в сердце. Он ведь не знает, какой голод гложет меня, какое желание, чтобы он остался! И конец был бы тот же, – сказал Роберт со все растущим убеждением. – Между мной и моим сыном есть жестокое различие, как я все чаще замечал последние годы. Он перебегает от одного горшка с холодной кашей к другому и в каждый сует палец, твердо веря, что вот тут – то и найдет яство своей мечты, я же не приподниму ни единой крышки, ибо твердо верю, что везде только каша, и всегда холодная. Да, я не сомневаюсь, что огромные блюда пурпурной каши, облитой молоком дракона, сдобренной неведомой сладостью, существуют лишь в воображении. Он свои грезы испытывает явью, мать, а я, да смилуется надо мной бог, страшусь поступить так же.
Эта пустая болтовня вывела ее из терпения.
– Роберт! – воскликнула она с сердцем. – Всякий раз, когда нам грозят беда, нужда или горе, ты прячешься за словами. Где твой родительский долг? Мальчик еще мал, а за морем всяких ужасов не перечесть, да и зима не за горами. Зимний кашель сведет его в могилу. Ты же знаешь, он простужается, чуть промочит ноги! Никуда он отсюда не уедет, даже в Лондон! И пусть эти его глаза, про которые ты толкуешь, иссохнут от голода. Откуда ты знаешь, с какими людьми он поведется? Каким глупостям, каким мерзостям они его обучат? Я – то знаю, сколько в мире зла. Священник ведь чуть не каждый день господень твердит про силки и ловушки, которые расставляет нам суетный мир. Или ты не понимаешь? Но так оно и есть. А ты сидишь сложа руки и бормочешь всякие глупости про пурпурные каши, вместо того чтобы что – то сделать. Запрети ему – и делу конец.
Однако Роберт ответил с раздражением:
– Для тебя он малый ребятенок, за которым надо присматривать, чтобы он помолился на ночь, а выходя из дома не забывал надеть курточку, и ты не замечаешь в нем стали, как замечаю я. По – твоему, когда он упрямо выставляет подбородок, это мимолетный каприз расшалившегося несмышленыша. Но я знаю – и говорю тебе это без всякой радости, – что наш сын поднимется очень высоко, потому… да, потому что он не очень умен. И способен видегь только то, что хочет сейчас, сию минуту. Я сказал, что свои грезы он испытывает явью. И каждую он сразит стрелой своей же неумолимой воли. Этот мальчик добьется любой цели, к которой будет стремиться, ибо не признает ничьих мыслей и побуждений, кроме собственных, и я сожалею о его грядущем величии, ибо однажды Мерлин сказал нечто… Погляди на его гранитный подбородок, мать, на желваки, которые вздуваются на его скулах, когда он стискивает зубы.
– Он должен остаться дома, – объявила Матушка Морган и сжала губы в тонкую линию.
– Вот видишь, мать, – продолжал Роберт, – ты и сама бываешь такой же, как Генри, потому что не признаешь ничьих мнений, кроме собственного. Но я не стану ему препятствовать, потому что не хочу, чтобы он ушел тайком темной ночью, с куском сыра и краюхой хлеба за пазухой, с обидой в сердце. Я разрешаю ему уехать. И даже помогу, если он того захочет. Вот тогда, если я все – таки ошибаюсь в своем сыне, он вернется назад присмиревший, робко про себя надеясь, что никто не помянет его трусости.
Матушка Морган ответила: «Глупости», – и снова взялась за метлу. Она не поверит этому вздору и тем его рассеет. О, сколько всего она ввергла в небытие отказом поверить. Многие годы она сокрушала нелепые мечты Роберта тяжелыми фалангами здравого смысла. Ее войско атаковало без промедления и разбивало врага наголову. Роберт всегда устало отступал и некоторое время сидел, улыбаясь чему – то. Конечно, и на этот раз он скоро образумится.
Сильные загорелые пальцы Роберта рыхлили почву у корней розового куста. Они подхватывали комочки чернозема и аккуратно прихлопывали их там, где следовало. Время от времени Роберт с неизъяснимой любовью поглаживал серый стволик. Казалось, он поправляет одеяло на спящем и проводит рукой по его плечу, убеждая себя, что все хорошо.
День выдался ясный: зима чуть – чуть отступила и вернула миру взятого в плен заложника – маленькое холодное солнце. В сад вошел юный Генри и остановился у ограды под вязом, оголенным, изломанным грубыми ласками ветра.
– Ты подумал, как я тебя просил? – произнес Роберт негромко.
Генри вздрогнул. Ему казалось, что человек, который опустился на колени, словно поклоняясь земле, не мог заметить его присутствия, хотя пришел он для того, чтобы быть замеченным.
– Да, отец, – ответил он. – Как я мог не думать?