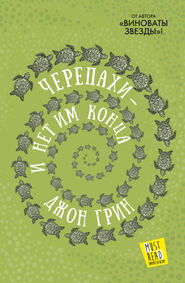По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Виноваты звезды
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, – ответил он. – В Норт-сентрал. Правда, на год отстал, я в десятом. А ты?
Меня посетило искушение солгать – кому понравится ходячий труп, но все же я сказала правду.
– Нет, родители забрали три года назад.
– Три года? – в изумлении переспросил он.
Я в подробностях расписала историю своего чуда: в тринадцать лет у меня обнаружили рак щитовидки четвертой степени (я не сказала Огастусу что диагноз поставили через три месяца после первой менструации. Получилось вроде как – поздравляем, ты девушка, а теперь можешь подыхать). Нам сказали – случай некурабельный.
Мне сделали операцию «радикальное иссечение клетчатки шеи», столь же «приятную», как ее название. Потом курс облучения. Потом химию против метастазов в легких. Метастазы уменьшились, потом снова выросли. Мне тогда было четырнадцать. Легкие начали наполняться жидкостью. Я выглядела конкретным трупом: кисти и стопы отекли, кожа потрескалась, губы постоянно были синие. Появилось лекарство, которое позволяло чуть меньше ужасаться невозможности дышать, и мне лили его целыми литрами через ЦВК[2 - Центральный венозный катетер.] вместе с десятком других медикаментов. Очень неприятно захлебываться раковым экссудатом, особенно после нескольких месяцев с этим катетером. В конце концов я загремела с пневмонией в отделение интенсивной терапии. Мать стояла на коленях рядом с койкой и повторяла: «Ты готова, детка?» – я говорила – да, готова, отец повторял, что любит меня, и его голос почти не дрожал, потому что давно сел, а я повторяла, что тоже его люблю, и мы все держались за руки, и я не могла отдышаться, и легкие работали на пределе, и я задыхалась и приподнималась на койке, стараясь найти положение, в котором они смогли бы наполниться воздухом, и меня озадачивало отчаянное упорство собственных легких и бесило, что они не желают просто сдаться, и мама говорила, что все хорошо, что со мной все хорошо и будет хорошо, а папа так старался сдерживать рыдания, что, когда это ему не удавалось (через равные промежутки времени), он дергался всем телом, вызывая в палате маленькое землетрясение. Помню, я не хотела, чтобы меня будили.
Все решили, что я пешком отправилась на тот свет, но мой онколог доктор Мария смогла откачать жидкость из легких, а вскоре подействовали антибиотики, которые мне кололи от пневмонии.
Очнувшись, я попала в одну из экспериментальных групп, которыми славится Раковая Республика для Неработающих. Экспериментальное лекарство называлось фаланксифор: его молекулам полагалось прикрепляться к раковым клеткам и замедлять их рост. Семидесяти процентам больных фаланксифор не помогал. А мне помог – опухоли в легких уменьшились.
И больше не росли. Виват, фаланксифор! За последние полтора года метастазы практически не увеличились, оставив мне легкие, которые не способны толком дышать, но по прогнозам продержатся неопределенный период времени с помощью подаваемого кислорода и ежедневного приема фаланксифора.
Разумеется, мое раковое чудо лишь купило мне немного времени (сколько именно, сказать никто не может). Но в разговоре с Огастусом Уотерсом я расписала перспективы самыми розовыми красками, приукрасив масштабы чуда.
– Значит, ты снова пойдешь в школу, – подытожил он.
– Вообще-то не пойду, – сказала я. – Я уже получила аттестат. Я учусь в МСС.
Это был единственный колледж в нашем районе.
– Студентка, – кивнул Огастус Уотерс. – Вот чем объясняется аура учености.
Он смеялся надо мной. Я шутливо пихнула его в плечо, ощутив прекрасные упругие мышцы.
Под визг покрышек мы свернули в переулок с оштукатуренными стенами высотой футов восемь. Дом Уотерсов оказался первым слева – двухэтажный, в колониальном стиле. Мы рывком затормозили на подъездной дорожке.
Я вошла за Огастусом в дом. Деревянная табличка над дверью с гравировкой курсивом «Дом там, где сердце» оказалась лишь началом: подобными изречениями пестрел весь дом. «Хороших друзей трудно сыскать и невозможно забыть», – заверяла настенная вешалка. «Настоящая любовь рождается в трудные времена», – говорила игольница в гостиной, обставленной старой мебелью. Огастус перехватил мой взгляд.
– Родители называют их «ободрениями», – пояснил он. – Они тут повсюду.
Отец с матерью называли его Гасом. Они на кухне готовили энчилады (над раковиной висела пластинка витражного стекла с пузырчатыми буквами «Семья навсегда»). Мать клала на тортилльяс курятину, а отец сворачивал блинчик и помещал его в стеклянный сотейник. Они не удивились моему приходу, что я сочла разумным: если Огастус дал мне почувствовать себя особенной, это не значит, что так оно и есть на самом деле. Может, он каждый день водит домой девушек смотреть фильмы и поднимать настроение.
– Это Хейзел Грейс, – представил он меня.
– Просто Хейзел, – поправила я.
– Как дела, Хейзел? – спросил отец Гаса. Он был высоким, почти как Гас, и тощим. Мужчины в его возрасте редко такими бывают.
– Ничего, – ответила я.
– Как там группа поддержки Айзека?
– Обалдеть, – ответил Гас.
– Ну ты вечно всем недоволен, – пожурила его мать. – Хейзел, а тебе там нравится?
Я помолчала секунду, решая, как откалибровать ответ: чтобы понравиться Огастусу или его родителям?
– Большинство участников очень отзывчивые, – произнесла я наконец.
– Именно такое отношение мы встретили в семьях в «Мемориал», когда Гас там лежал, – поделился его отец. – Все были такими добрыми и мужественными. В черные дни Господь посылает в нашу жизнь лучших людей.
– Скорее дайте мне думку и нитки, эту фразу нужно вышить и сделать ободрением, – вскричал Огастус. Отцу это не понравилось, но Гас обнял его длинной рукой за шею и сказал:
– Шучу, пап. Я высоко ценю ваши чертовы ободрения. Признать это открыто мешает переходный возраст.
Отец только округлил глаза.
– Поужинаешь с нами? – спросила мама Гаса, миниатюрная брюнетка, похожая на мышку.
– Наверное, – ответила я. – Только мне домой к десяти. И я, это, не ем мяса.
– Нет проблем, сделаем несколько блинчиков вегетарианскими, – сказала она.
– Так сильно любишь животных? – поинтересовался Гас.
– Просто хочу минимизировать число смертей, за которые несу ответственность, – пояснила я.
Гас открыл рот что-то ответить, но передумал.
Паузу поспешила заполнить его мать:
– Я считаю, это замечательно.
Они немного поговорили о том, что сегодняшние энчилады – это фирменные блинчики Уотерсов, которые нельзя не попробовать, и они с мужем тоже требуют от Гаса приходить не позже десяти, и как они инстинктивно не доверяют людям, у которых дети приходят не в десять, и будь я в школе… – «Она уже в колледже», – вставил Гас, – и погода стоит совершенно необыкновенная для марта, и весной все кажется первозданно новым, и они ни разу не спросили меня о кислородном баллоне или диагнозе, что было необычно и приятно, а потом Огастус объявил:
– Мы с Хейзел посмотрим «“V” значит Вендетта». Хочу показать ее киношного двойника, Натали Портман образца двухтысячного года.
– Телевизор в гостиной к вашим услугам, – с энтузиазмом сказал его отец.
– А почему не на цокольном этаже?
Его отец засмеялся:
– Обяза-ательно. Идите в гостиную.
– Но я хочу показать Хейзел Грейс подвал, – настаивал Огастус.
– Просто Хейзел, – поправила я.
– Покажи просто Хейзел подвал, – согласился отец, – а потом поднимайтесь и смотрите свой фильм в гостиной.
Огастус надул щеки, встал на ногу и покрутил задом, выбрасывая протез вперед.