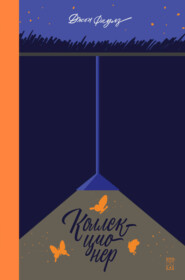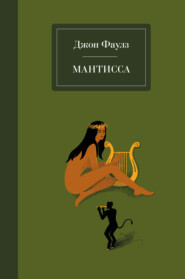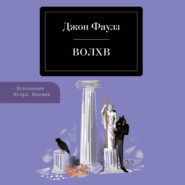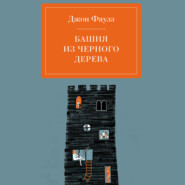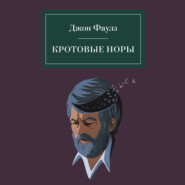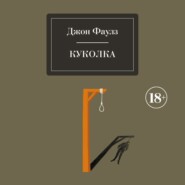По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кротовые норы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда я выхожу из дома и встречаюсь с другими людьми, оказываюсь втянутым в их жизнь, в повседневную публичную рутину, мое собственное одиночество, «безрутинность» и свобода от экономических «забот» (изысканная форма тюремного заключения) часто вызывают у меня такое чувство, будто я инопланетянин, гость из космоса. Мне нравятся земляне, но я не вполне четко понимаю, что они такое и чем заняты. Я хочу сказать, что где-то там, в космосе, у себя дома, мы управляемся с делами получше. Но что поделать – я послан сюда, и транспорта назад не будет.
Что-то в этом роде кроется за всем, что я пишу.
Это абсолютное различие между миром написанным и миром, в котором писатель живет, когда пишет, совершенно недоступно пониманию неписателя. Не-писатели видят нас такими, какими мы были, а мы такие, какие мы есть здесь и сейчас. Писателю важен не сюжет, а сам опыт владения им; выражаясь романтически, трудный подъем взят, ураган пережит, нехоженая лунная поверхность – под твоей ногой. Это нечестивые наслаждения, и мир вообще-то прав, когда взирает на нас со злобой и подозрением.
Самый невыносимый для меня день – когда я отсылаю рукопись в издательство, ведь в этот день люди, которых полюбил, умирают: они становятся тем, чем являются на самом деле, – окаменевшими ископаемыми организмами, теперь их будут изучать и коллекционировать другие. Меня часто спрашивают, что я хотел сказать тем или этим… Но то, что я написал, и есть то, что я хотел сказать. Если это не ясно из книги, то не может стать яснее и сейчас.
Я нахожу, что американцы, особенно те добрые люди, что пишут и задают вопросы, имеют странно прагматический взгляд на то, что такое книги. Возможно, из-за злосчастной ереси, что творчеству можно обучить (слово «творчество» здесь просто эвфемизм для слова «подражание»), они вроде бы уверены, что писатель всегда точно знает, что и зачем он делает. Не очень ясные книги для них – нечто вроде кроссворда. Они предполагают, что где-то, в одном из номеров газеты, который они случайно пропустили, были даны ответы на все вопросы.
Короче говоря, им кажется, что книга – все равно что станок: если знать как, можно разобрать ее на мельчайшие детали.
Вряд ли стоит винить обычного читателя за то, что он полагает именно так. Ведь в последние сорок лет и статьи ученых-литературоведов, и еженедельные колонки литературных обозревателей в газетах и журналах стали угрожающе научными или псевдонаучными по своему характеру. Анализ и категоризация – это научные инструменты, без которых не обойтись в научных областях; но роман, как и поэма, является областью науки лишь отчасти. Речь не идет о том, чтобы вернуться к беллетристически-онанистическим описаниям новых книг, какие были в моде в начале XX века, однако мы явно заслуживаем кое-чего получше, чем то, что имеем сегодня.
Я – заинтересованная сторона. Я это признаю. С тех самых пор, как я взялся писать «Любовницу французского лейтенанта», я читаю бесчисленные некрологи, оплакивающие смерть романа; особенно мрачный вышел из-под пера Гора Видала[76 - Гор Видал (1925–2012) – американский писатель, романист, драматург, публицист, работы которого отличаются ярким остроумием и сатиричностью. Романы «Уилливо» (1946), «В желтом лесу» (1947) основаны на его военном опыте периода Второй мировой войны. Другие произведения трактуют самые разные сюжеты, такие, например, как психология гомосексуальности и транссексуальности: «Город и столп» (1948), «Майра Брекенридж» (1968); взаимоотношения между матерью и сыном и т. п.: «Сезон благополучия» (1949); исторические романы: «Поиски короля» (1950) – о любви трубадура к Ричарду Львиное Сердце, «Юлиан» (1965) – о римском императоре Юлиане Отступнике, «Сотворение» (1981) – V век, мир Дария, Ксеркса и Конфуция. В своих исторических романах Г. Видал часто использует историю как средство анализировать настоящее. В числе других работ – пьесы «Визит на небольшую планету» (1956), «Вдруг, прошлым летом» (1958). В 1974 году он опубликовал продолжение нашумевшей «Майры Брекенридж» – «Мирон». «Вторая американская революция» (1982) – один из многочисленных сборников статей и очерков. Его очерки элегантны и резки одновременно. Видал также опубликовал несколько детективов под псевдонимом Эдгар Бокс. В 1995 г. были изданы откровенные и остроумные мемуары о его жизни до сорока лет – «Палимпсест».] в 1967 году в декабрьском номере журнала «Энкаунтер»[77 - «Энкаунтер» – «Encounter» – встреча (англ.).]. И я наблюдаю, как рецензии на романы у нас, в Англии, становятся все более нетерпимыми, сбрасывающими роман со счетов. Теперь я жду, что одна из наших самых модных газет того и гляди объявит, что навсегда закрывает колонку «Новые книги», а освободившееся место достанется телевидению или поп-музыке. Разумеется, я заинтересован, но так же, как мистер Видал, беспокоюсь не за себя, для этого у меня вряд ли могут быть причины. Если даже роман мертв, труп его остается на удивление плодоносным. Нам говорят, что теперь романов никто больше не читает, так что авторы «Юлиана» и «Коллекционера» должны быть благодарны купившим их книги призракам (а таких на каждого приходится по два с лишним миллиона). Но я вовсе не хочу быть саркастичным. Речь идет о чем-то гораздо более существенном, чем личный интерес.
Мы вынуждены выбирать между двумя точками зрения: либо роман, а с ним вместе и вся культура печатного слова отживают свой век, либо наш век – увы! – в чем-то печально слеп и мелок. Я знаю, какого взгляда придерживаюсь я сам, и меня поражают люди, уверенные, что правильна первая точка зрения. Хотите всезнания? Тут-то вы его и получаете. Но вас – читателей, которые не являются ни литературоведами, ни писателями, – должно бы встревожить это всезнающее презрение к печатному слову, столь широко распространенное среди профессиональных патологоанатомов, препарирующих литературу. Нам нужно хирургическое вмешательство, а не анатомическое вскрытие. Тело умирает не только тогда, когда удаляют мозг: если вырвать сердце, результат будет тот же.
27 октября 1967 года. Закончил первый черновой набросок, начатый 25 января. В нем примерно 140 000 слов, и точно, как я себе и воображал, это совершенный, безупречный, прелестный роман. Но, увы, все это лишь в моем воображении. Когда я его перечитываю, я вижу 140 000 таких вещей, которые нужно переделывать. Возможно, тогда он будет менее несовершенным. Но энергии на это уже не хватает: теперь начнутся мучительные поиски реалий, ужасающие меня изыскания, нескончаемый подбор слов и предложений. А я хочу писать уже другую книгу. Прошлой ночью у меня возник такой странный образ…
Предисловие к сборнику стихов (1973)
I, fugi, sed poteras tutior esse domi[78 - Цитата из Марциала, переводится так: «Ну что ж, беги, не останавливайся, но ты был бы в большей безопасности, оставшись дома» (лат.). – Примеч. авт.].
Если публикация собственных произведений не дело поэтов, то уж самоэкзегеза[79 - Экзегеза – толкование, интерпретация, комментирование текстов (в основном библейских или античных).] и подавно. Но, поскольку этот сборник после выхода в свет моих романов оказывается чем-то вроде подстрочного примечания, освещающего некоторые доселе неизвестные автобиографические моменты, я хотел бы кратко сказать о том, какое место занимает поэзия в моей писательской жизни.
Так называемый кризис современного романа, несомненно, вызван связанным с романом чувством неловкости. Самая существенная его вина – его форма, поскольку она по сути своей есть некая игра, искусная уловка, позволяющая писателю играть в прятки с читателем. Строго говоря, роман являет собою гипотезу, представленную более или менее изобретательно, более или менее оригинально и убедительно – то бишь он есть ближайший родственник лжи. Это чувство неловкости из-за того, что приходится лгать, и объясняет, почему в огромном большинстве романов писатели подражают действительности с таким тщанием; этим же объясняется, почему столь характерной чертой современного романа стало то, что правила игры выставляются на всеобщее обозрение, то есть ложь, сочинительство выявляются в самом тексте. Вынужденный сочинять, выдумывать людей, которые никогда не существовали, описывать события, которые никогда не происходили, писатель стремится либо звучать как можно «правдивее», либо явиться с повинной.
Поэзия движется совершенно иным, обратным путем: ее внешняя форма может быть крайне искусственной и invraisembable[80 - Неправдоподобной (фр.).], но ее содержание обычно гораздо более говорит об авторе, чем содержание прозаических сочинений. Стихотворение говорит о том, кто ты есть и что ты чувствуешь, в то время как роман говорит о том, кем могли бы быть и что могли бы чувствовать вымышленные герои. Только весьма наивные читатели могут предполагать, что сочиненные писателем персонажи и их мнения служат надежным указателем на реальное «я» автора; что, поскольку Фанни Прайс[81 - Фанни Прайс – один из основных персонажей романа Джейн Остин «Мэнсфилд-Парк» (1814).] представляет идею высочайшей моральной добродетели Джейн Остин, сама Джейн Остин – доведись нам знать ее поближе – оказалась бы точно такой же, как Фанни Прайс. Я и сам уже несколько устал от того, что меня принимают за всемудрого миллионера с далекого греческого острова.
Конечно, некоторые поэты скрывают лицо под маской (хотя более всего из чистой риторики, а не с целью и вправду обмануть читателя), и, конечно же, в каждом романе есть автобиографические элементы. Тем не менее я убежден, что различие здесь весьма существенное. Очень трудно вложить свое сокровенное «я» в роман; очень трудно не вложить это «я» в стихи. Романист – что актер на сцене, его личность должна быть подчинена публичному ведущему – романному церемониймейстеру. У романиста главная аудитория – другие люди. У поэта – его собственное «я».
Я думаю, это может отчасти послужить объяснением, почему одни пишут только стихи, а другие – только прозу и почему превосходная форма и в том, и в другом виде творчества такая редкость. Подозреваю, что большинство прозаиков пытаются закамуфлировать чувство личной несостоятельности перед реальной жизнью, неспособность встретиться с ней лицом к лицу (чувство, которое еще отягчается актом создания литературного сочинения, фабрикацией литературной лжи, изобретательных фантазий), скрыть врожденное чувство психологической или социологической личной вины. Некоторые писатели – Хемингуэй тому классический пример – создают реально-жизненные и одновременно литературные персонажи в ответ на требования столь трудного положения.
Большинство настоящих поэтов находятся в гораздо более счастливых или хотя бы не таких трудных отношениях со своим сокровенным «я». По крайней мере они живут, не испытывая постоянной необходимости бежать прочь от зеркала.
Во всяком случае, я нахожу, что писание стихов – а их я начал писать раньше, чем взялся за прозу, – дает огромное облегчение от постоянного притворства прозаического литературного сочинительства. Беря в руки книгу стихов, я всегда думаю, что уж одно-то преимущество перед большинством романов у нее наверняка есть: дочитав ее до конца, я буду знать автора лучше. Я вовсе не надеюсь, что эта истина полностью относится к тому, что следует за предисловием. Я знаю, что это – истина, как отлично знаю и то, что твоя личная истина есть очень слабое оправдание твоим писаниям. Я имею в виду строку из Марциала[82 - Марциал, Марк Валерий (ок. 40 – ок. 104) – римский эпиграммист, автор пятнадцати книг эпиграмм, написанных в разной метрике и отличавшихся неожиданными концовками.], предваряющую это предисловие.
О мемуарах и сороках (1983–1994)[83 - Это эссе, в несколько более кратком виде, было впервые опубликовано под заголовком «О мемуарах и сороках» в 1983 г. Здесь в него включен материал из другой статьи, озаглавленной «Урика» (1994), где тоже упоминаются сорочьи привычки автора в собирании книг. – Примеч. авт.]
Несколько лет тому назад я решил завести себе экслибрис. Не только из тщеславия, ведь удовольствие от коллекционирования книг отчасти связано еще и со знанием того, кому они до тебя принадлежали; и мне нравится думать о каком-нибудь книголюбе-покупателе XXI века (если покупатели и книги еще будут в это время существовать!), которому – или которой – в выбранном у букиниста томе попадется мой экслибрис. Возник вопрос об эскизе, о создании эмблемы, обобщенно передающей характер книг, иметь которые нравится мне более всего. Резчик по дереву предлагал самые разные, элегантнейшие элементы орнамента. Но в конце концов только один, вовсе не элегантный элемент показался мне вполне подходящим, и теперь у меня имеется экслибрис с моим именем в окружении сорок.
Всякий знает, что писателям в самом начале карьеры нужны понимающие и чуткие литагенты и издатели. Подозреваю, что им точно так же необходимы понимающие книготорговцы; в этом отношении мне повезло, поскольку я познакомился с мистером Фрэнсисом Норманом и его лавкой антикварных книг в лондонском Хэмпстеде и там узнал о литературе гораздо больше, чем когда учился в Оксфорде.
Решусь предложить определение – какой должна быть такая вот книжная лавка. Она должна принадлежать человеку, обладающему чувством юмора, обширными знаниями и изрядной любознательностью, которому ничто, имеющее форму книги, не может быть чуждо, который может показать вам титульный лист Эльзевира[84 - Эльзевир – семья голландских печатников, активно работавших в период 1583–1712 гг. Луи Эльзевир (1542–1617), родившийся в Лувене, основал свое дело в Лейдене ок. 1580 г. Слава дома основана на печатании элегантных изданий произведений классических авторов.] и тут же прочесть страничку из дешевого, в бумажной обложке, научно-фантастического романа. Содержаться такая лавка должна в состоянии кажущегося перманентного хаоса – вечная нехватка места на полках для слишком большого количества книг, вечное нагромождение книжных пачек и коробок – только что приобретенных партий книг, ожидающих тщательного рассмотрения. И, сверх всего, выбор книг в ней должен быть всеобъемлющим, ибо первейшая задача такой лавки – помочь писателям осознать и реализовать их вкусы, помочь, даже доходя порой до такой крайности, как попытка убедить их, что они вовсе и не любят старые книги.
В университете нас учат ценить предписанные шедевры, у нас никогда не хватает времени на то, чтобы исследовать громаду айсберга, скрытую под водной поверхностью экзаменационных требований. Я вышел из Оксфорда в состоянии полного замешательства в отношении моих истинных (в противоположность приобретенным) литературных вкусов. И только после того, как зачастил в лавку мистера Нормана и к властвующему в ней духу (обоих уже нет на свете, увы!), я открыл для себя, что я на самом деле представляю собой как книголюб. Отчасти это объясняется возможностью выбора, азартной игрой, восторгом непредвиденности; обнаружением, что есть и иные виды эрудированности и любви к книге, чем академические. А может быть, помимо всего прочего, и всегдашней в те дни нехваткой денег. Богатые могут удовлетворять свои самые незначительные прихоти, бедным приходится выяснять для себя, что им действительно по душе.
Я горько сожалею о том, что в Англии 1990-х годов (мне говорили, что и в Америке происходит то же самое) исчезают такие книжные лавки. Отчасти это, конечно, результат инфляции и скудости поступлений. Даже мой друг мистер Норман не смог бы теперь оставить второстепенные томики XVII и XVIII веков, без обложек, с истрепанными, без углов страницами, валяться где попало без присмотра и уступать их всякому, кто откопает, по бросовым ценам. Неистощимый кладезь старинных имений иссох, а запросы и финансовые возможности университетских библиотек всего мира кажутся неистощимыми. Но на днях я зашел в один из самых больших букинистических магазинов Великобритании: колоссальный выбор книг, все аккуратно расставлены по полкам, каталогизированы, все – по очень высоким ценам, а тут ведь не поторгуешься; и за каждым поворотом – расторопные, знающие свое дело продавцы. Возможно, такое учреждение – мечта библиотекаря, ученого-исследователя. А я мог только оплакивать те две пыльные и тесные комнатушки в Хэмпстеде, где ничего нельзя было найти сразу и где все каким-то образом в конце концов отыскивалось. В одном из этих двух мест библиофильство кажется холодно рассчитанным предметом науки, в другом – любовным романом.
Каждый трактат о библиомании повторяет один и тот же замечательный совет: держитесь одного века, одной сферы, одного печатника, одного автора… специализируйтесь или выбрасывайте деньги на ветер. Все мои деньги выброшены на ветер, так как я никогда не покупал книг из-за определенных изданий, переплетов или печатников, и менее всего – из-за литературной значимости. Все, что я собрал, – это случайные находки, беспризорные и заблудшие, бесхребетные обломки четырех прошедших веков, большую часть которых человечество вполне заслуженно обрекло на полное забвение. То, что приличных книг я не читаю, вызывает все большую неловкость. Я сталкиваюсь с этим каждый раз, когда беседую со студентами, и огромные, неисследованные и ничем не заполненные пространства моих познаний – как в современной, так и в классической литературе – вылезают на всеобщее обозрение. Когда мое унижение становится невыносимым, я порой притворяюсь, что – за исключением одного-двух любимых авторов, таких как Дефо, Остин и Пикок, – предпочитаю плохие романы хорошим. В каком-то смысле так оно и есть. Плохой роман рассказывает вам гораздо больше о том веке, когда был написан, чем хороший: утверждение это звучит настолько еретично для среднего, нафаршированного классикой страсбурского гуся[85 - …страсбурского гуся… – Гусь (goose) – строгий и раздраженный критик; ругатель (англ. сленг).], что просто не может не быть верным.
Не очень добро звучит, но по крайней мере это подводит меня к первому – генерализующему – принципу (еще не к самому принципу – к его тени) моего чтения. Более всего мне нравится, когда книга дает острое ощущение эпохи, в которую была написана; это одна из причин, почему я предпочитаю ранние издания – пусть далеко не совершенные – прекрасно аннотированным изданиям современным. Выверенность текста и аппарат привлекают меня гораздо меньше, чем то, как «чувствовалась» книга, когда ее автор был еще жив; это, в свою очередь, объясняется моим отношением к книгам, которые я собираю, как к машинам пространства или времени: они для меня как бы образцы научной фантастики, вывернутой наизнанку, промельки неизвестного прошлого. Всего несколько недель назад я приобрел меньше чем за один фунт лишенное переплета, но в остальном полное, без дефектов, признание главной свидетельницы французского судебного процесса 1817 года. Разбиралось дело об убийстве. Во время разбирательства эта дама сломалась и изменила свои показания, чем заработала весьма дурную репутацию; мемуары Клариссы Мансон – попытка с ее стороны объяснить всему обществу, до слушания дела об апелляции, почему она повела себя именно так. Ради этого она описывает каждую деталь, рассказывает, где она была и что делала в день, когда было совершено убийство; и неожиданно происходит чудо: ты оказываешься там, в марте 1817 года, в далеком городе Родезе, что в департаменте Авейрон, в голове невротичной и умной молодой француженки, эффектно подающей себя в качестве страдалицы. Мне такое чтение – все равно что высадка на иную и обитаемую планету.
Или вот вспоминается еще одна недавняя покупка: «Расследование и раскрытие злодейского убийства графа Эссексского»[86 - «Plotter» Ferguson. An Enquiry into, and Detection of the Barbarous Murder of the Late Earl of Essex (1689). – Примеч. авт.]. Официально считалось, что граф совершил самоубийство примерно в девять часов утра 13 июля 1683 года; но этот длиннейший памфлет 1689 года ставит своей целью доказать, что граф был убит влиятельными папистами. Памфлет был написан «Интриганом» Фергюсоном, язвительным полемистом «Новых левых пуритан», в конце XVII века. Он восстанавливает события того июльского утра, а затем анализирует их, рассматривая и толкуя противоречивые детали острым взглядом Шерлока Холмса и с его же презрительным скептицизмом. И снова чтение заставляет твое воображение перескочить назад, через три века, внутрь странной и вызывающей ужас тайны – смерти Эссекса, и не менее странной и так поразительно рано возникшей политической ярости, владевшей Фергюсоном и ему подобными.
Старые судебные отчеты, книги путешествий и исторические мемуары позволяют переживать этот опыт гораздо более живо и наглядно, чем книги любой другой категории. Романы – увы! – часто и вполовину не столь убедительны и захватывающи. Однако я полагаю, описанное мною предрасположение к такого рода непридуманной истории и в самом деле помогает мне писать собственные придуманные истории. Такое чтение, если оно к тому же обширно, должно насквозь пропитать ум техникой повествования – причем не изобретенной самим романистом, а вполне реальной. Хорошие мемуаристы часто являют такие примеры экономности характеристик, быстроты повествовательного ритма, слуха, чуткого к сути диалога, что беллетристу остается только краснеть от стыда. Я знаю, что очень многому у них научился.
Терпеть не могу книги, которые можно отложить; и если в книгах нет повествования, которое может поддержать интерес, то пусть лучше – насколько это меня касается – они будут чертовски хороши в других отношениях. Повествование – мой второй генерализующий принцип при выборе чтения. У меня к повествованию совершенно необузданная жажда, это серьезно перекашивает мои литературные суждения. Катастрофически низкий «скуковой» порог вечно мешает мне дочитывать до конца бесчисленные серьезные и достойные романы весьма серьезных и достойных авторов. Я могу восхищаться людьми, подобными Ричардсону или Джордж Элиот, но никогда не смог бы читать их ради удовольствия. Все это делает для меня затруднительным отвечать на вопрос о литературном влиянии.
Я мог бы признать такое влияние – в прямом и единственном смысле – лишь на одну из моих книг, первую из мной написанных, хотя и не первую опубликованную. «Волхв» – дань уважения и восхищения «Большому Мольну», но даже этот шедевр (чьи недостатки я ясно вижу, но чье глубокое эмоциональное воздействие на меня не могу объяснить) узурпировал совсем другую книгу, первую из тех, что я полюбил всей страстью души и почти полностью прожил… Думаю, я должен ее назвать по квазиархетипическим причинам, раз уж мне приходится ограничить себя единственным главным источником влияния. Это «Бевис» Ричарда Джеффериса[87 - Ричард Джефферис (1848–1887) – английский писатель и натуралист. Впервые привлек внимание читающей публики книгой «Егерь у себя дома: Очерки естественной истории и сельской жизни» (1878). Его роман «Бевис. История одного мальчика» (1882) – книга не только для детей, но и для взрослых, яркий рассказ о деревенском детстве. Другие его работы включают «Жизнь природы в южном графстве» (1879), «Лесная магия» (1881) – о мальчике, живущем в волшебном мире говорящих животных, и др. Самая известная его книга – «История моего сердца» («The Story of Му Heart», 1883), прослеживающая развитие его необычных взглядов и верований, вызвала довольно громкий скандал. Одна из его поздних книг «После Лондона» (1885) – жестокое видение будущего столицы, превратившейся в зловонное болото, населенное злобными карликами.]. Я и сейчас считаю ее самой лучшей английской книгой для мальчишек; и то, что сегодня ни один мальчишка из миллиона ребят ее не прочел, мне представляется большой потерей для них, а вовсе не доказательством моего ошибочного суждения.
У меня совершенно нет памяти на романы, я не помню их сюжетов, идей, персонажей. Я не мог бы даже с достаточной точностью реконструировать в памяти и свои собственные, если бы пришлось это делать. Думаю, что я читаю так же, как пишу. Я очень напряженно проживаю непосредственный «сейчасный» опыт, но, когда это заканчивается, все очень быстро исчезает из виду. Так что, честно говоря, я могу предложить лишь пару дюжин полок сорочьей бессмыслицы, девять десятых которой напрочь забыты всеми и даже мною самим во всех смыслах; и только один, хоть и весьма отдаленный, смысл еще сохраняется: это немногие редкостные находки. Снимаю с полок некоторые – наудачу.
«Memoires de Trenck»[88 - «Мемуары Тренка» (фр.).], 1789, история великого побега из тюрьмы; «Roswall and Lillian»[89 - «Росвалл и Лиллиан» (англ.).], перепечатка 1822 года, экземпляр Суинберна[90 - Суинберн, Алджернон Чарльз (1837–1909) – английский поэт и драматург, связанный с группой прерафаэлитов Данте Габриэля Россетти (1828–1882). Автор поэтических драм, поэм и баллад. Драма «Аталанта и Калидон» (1865), написанная в форме классической греческой драмы и свидетельствовавшая о замечательном владении метрикой стиха, принесла ему широкую известность. Его стихи и поэмы («Гимн Прозерпине», «Торжество времени», «Фаустина» и др.) испытывают влияние де Сада и откровенно отвергают христианство. «Песнь об Италии» (1867) и «Предрассветные песни» (1871) говорят о его поддержке борьбы за независимость Италии. В 1880-е годы он опубликовал несколько томов поэтических произведений, включающих такие, как «Мария Стюарт», «Тристрам Лионесский», «Марино Фальеро» и третью серию стихов и баллад. Суинберн искусно владел самыми разнообразными стихотворными формами, создавая бурлески, современные и псевдоантичные стихи и баллады, рондо и т. п. В его переводе были изданы баллады Франсуа Вийона.]; «Menagiana»[91 - «Менагиана» (фр.).], 1693, пиратское издание, полное замечательных историй; «Tell It All»[92 - «Расскажи обо всем» (англ.).], 1878, классический выпад против мормонов; «The Sporting Magazine[93 - «Спортивный журнал» (англ.).] за 1816 год, с замечательными местами о «болельщиках»; «The Diaboliad»[94 - «Дьяволиада» (англ.).], 1777, яростный пасквиль Уильяма Кума[95 - Уильям Кум (1741–1823) – английский писатель, автор многих прозаических и стихотворных произведений, включающих такие, как «Дьявол на двух палках в Лондоне» (1790), «Лондонский микрокосм» (1808). Особенно известна его пародийная трилогия «Путешествие доктора Синтаксиса в поисках живописности» (1809–1812, 1820, 1821).]; «The Wild Party»[96 - «Дикая группа» (англ.).], 1929, изданные частным образом весьма странные вирши эпохи джаза, которые нравятся не только мне; перепечатка «Bedford Eyre Roll»[97 - «Бедфордская газета Эйр Ролл» (англ.).], 1227, истинная машина времени; «On the Height of the Aurora Borealis»[98 - «На высотах Авроры Бореалис» (англ.).], 1828, книга Джона Дальтона[99 - Джон Дальтон (1766–1844) – английский ученый-химик, один из отцов-основателей современной теории атома. В 1803 году он создал первую таблицу сравнительных атомных весов. Интересуясь метеорологией, он пришел к изучению газов и в 1801 году сформулировал знаменитый закон парциальных давлений, названный его именем. В 1794 году он опубликовал первое детальное описание «дальтонизма» – искаженного восприятия цвета, основанное на его собственной неспособности отличить зеленый цвет от красного.], им подписанная; «Account of a Visit to Rome»[100 - «Отчет о посещении Рима» (англ.).], 1899, это рукопись, к тому же уморительно резонерская; «Memoirs de Martin du Bellay»[101 - «Мемуары Мартэна дю Белле» (фр.).], 1573, дядюшки Иоахима[102 - …«Memoirs de Martin du Bellay», 1573, дядюшки Иоахима… – Иоахим Дю Белле (1525–1560) – французский поэт, один из блистательных поэтов Плеяды, автор таких поэтических произведений, как «Олива», «Сельские игры», «Сожаленья»; его знаменитое выступление «В защиту французского языка» стало манифестом новой школы.], с его личными свидетельствами – как очевидца – о «Парчовом стане[103 - «Парчовый стан» – место встречи для переговоров Генриха VIII Английского и Франциска I Французского в Пикардии, в июне 1520 г.]»; «Pidgin English Sing-Song»[104 - «Распевы пиджин-инглиш» (англ.).], 1876 («Littee Jack Homer/Makee sit inside comer/Chow-chow he Clismas pie…»[105 - «Маленький Джек Хорнер/ Сел в уголок/Жует рождественский пирожок…» (искаж. англ.).]); «Candide»[106 - «Кандид» (фр.).], 1761, женевское издание, включающее первую редакцию поддельной второй части; «Lost Countess Falka»[107 - «Пропавшая графиня Фалка» (англ.).], 1897, бульварный роман Ричарда Генри Сэвиджа[108 - Ричард Генри Сэвидж (1697–1743) – английский писатель, автор двух пьес, нескольких од и сатирических стихотворений. Более всего известны его поэмы «Странник» (1729) и «Незаконнорожденный» (1728) – вдохновенное обвинение «матери, которая не мать» (Сэвидж утверждал, что он незаконнорожденный сын четвертого графа Риверса и леди Макклсфилд).], в настоящее время номинированный мной на первое место среди самых плохих романов на английском языке; «The Mercure Gallant»[109 - «Меркюр галлант» (англ.).] за сентябрь 1897 года с очаровательным рассказом о том, как жители Болоньи задерживают рост своих спаниелей (они ежедневно погружают их в коньяк, а потом разбивают им носы); «Souvenir Programme of the Cornish Corsedd of the Bards»[110 - «Сувенирная программа корнуолльского соревнования бардов» (англ.).], 1938; «An Essay on the Art of Ingeniously Tormenting»[111 - «Очерк об искусстве изобретательных пыток» (англ.).], 1804.
Последнее заглавие кажется вполне подходящим, чтобы на нем остановиться, и я избавлю вас от остальных забытых пьес, мемуаров, убийств и всего прочего, что я тут за все эти годы насобирал. Боюсь, все это может показаться несерьезным; и все же это более серьезно, чем вы можете подумать. Я уверен, что писатель должен распространить принцип humani nihil alienum[112 - Часть латинского изречения «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо».] также и на книги. Совершенно реальная пара сорок живет и каждый год плодится у меня в саду. Безнравственные создания, но я оставляю их в покое. Не следует причинять зло своим близким.
Экранизация «Любовницы французского лейтенанта» (1981)
Если история экранизации или, чтобы быть более точным, неэкранизации «Любовницы французского лейтенанта» не идет ни в какое сравнение с историями экранизации других романов (наиболее знаменита в этом плане книга «У подножья вулкана[113 - «У подножъя вулкана» (1947) – книга английского путешественника и писателя Кларенса Малькольма Лаури (1909–1957), успевшего при жизни опубликовать кроме этого романа только еще одну книгу – «Ультрамарин» (1933). Посмертно изданы «Услышь нас, о Господь, с небес, где пребываешь» (1961), сборник «Избранные стихи» (1962), роман «Темно, как в склепе, где мой друг лежит» (1968) и «Октябрьский паром в Габриолу» (1970).]»), в ней все же было несколько примечательных эпизодов. Не забуду тот вечер, когда одна весьма знаменитая актриса позвонила мне и сказала, что получила от поистине высокородного друга предложение сыграть главную роль в фильме. Она видела текст договора, предоставлявшего ему право выбора актеров, так что ее звонок мне, чтобы спросить, одобряю ли я его выбор, был просто жестом вежливости. Мне тогда пришлось насколько мог мягко – ведь я знал, кому действительно было предоставлено право выбора и какой выбор был сделан, – растолковать ей, что кто-то просто приобрел очень дорогую, но реально ничего не стоящую юридическую бумажку. К моему глубокому сожалению, высокородный джентльмен предпочел скорее потерять деньги, чем обнародовать в суде свою излишнюю доверчивость. А дело обещало быть очень интересным.
Но мне было бы сейчас очень трудно перечислить всех других, гораздо больше правомочных продюсеров и режиссеров, которые в тот или иной момент этого предприятия в той или иной степени были на него, так сказать, «задействованы».
Было время, когда мой неустанно энергичный партнер, Том Машлер, и я вдруг начинали относиться к делу с определенным цинизмом, когда – в который уже раз – инициатива была похоронена, и тем не менее, в результате какой-то загадочной извращенности, все новые кандидаты постоянно вырастали из этой все более иссыхающей почвы. После восьми или девяти лет мучений, после провала самой серьезной попытки (Фреда Циннемана) запустить производство фильма мы оба начали подозревать, что это дело обречено навечно. Я знал, что телевидение готово взяться за фильм, и колебался на грани отказа от всякой надежды на более старое средство массовой информации. Лишь тогда какие-то непостоянные в своих пристрастиях боги, правящие кинематографом, решили нам улыбнуться.
Еще до того, как книга вышла в свет, Том Машлер, зная, что я не очень-то доволен фильмами, снятыми по моим предыдущим романам, и экспромтом взявшийся за роль киноагента (в этом он оказался столь же одарен, как и в издательском деле), убедил меня, что я должен настаивать на том, на что никакой продюсер так уж легко не пойдет: вместо обычного символического согласия с выбором режиссера мне должно быть предоставлено право вето на любого, кто для меня неприемлем. (Мы настаивали на этом, не раз жертвуя другими весьма привлекательными предложениями, на всех переговорах, через которые нам предстояло пройти.) Мы с Томом были также согласны в том, что по возможности постараемся не иметь ничего общего со смехотворной системой, когда готовый сценарий ищет режиссера, а не наоборот. И у нас не было споров, к какому режиссеру обратиться в первую очередь. Разумеется, к Карелу Рейшу[114 - Карел Рейш (1926–2002) – английский (чешского происхождения) режиссер, продюсер, киновед. Известны у нас его фильмы «В субботу вечером, в воскресенье утром» (1960) по роману А. Силлитоу, «Любовница французского лейтенанта» (1981) по роману Дж. Фаулза и др.]. Так что в 1969-м мы отвезли ему книгу еще в гранках.
Карел отнесся к нам с полным сочувствием; к тому же мы нашли преданную союзницу в лице его жены – актрисы Бетси Блэр, но мы явились в исключительно неудачный момент со своими попытками соблазнить режиссера. Он только недавно закончил съемки трудного исторического фильма «Исадора» и не допускал даже мысли о том, чтобы снимать еще один такой (как заметил Карел, главная проблема с этим жанром возникает, когда вдруг обнаруживаешь, что на историю тратишь столько же времени, сколько на саму картину). Даже если бы мы тогда не поняли этого, то следующие несколько лет все равно заставили бы нас осознать, какой невероятной трудности проект мы взялись осуществить. Оглядываясь на то время, я подозреваю, что главным препятствием, смущавшим и подрывавшим веру в свои силы для режиссеров и сценаристов, к которым мы обращались, была быстро, словно грибы, растущая репутация книги. Ей повезло вдвойне: она получила не только коммерческий успех, но и достаточно хвалебные рецензии обозревателей, так что тексту романа теперь грозила опасность стать священным и неприкосновенным. Я помню встречу с Робертом Болтом[115 - Я помню встречу с Робертом Болтом… – Роберт Окстон Болт (1924–1995) – английский драматург, получивший известность постановкой пьесы «Цветущая вишня» (1957), опубликованной в следующем году; затем последовали пьесы «Тигр и лошадь» (1960) и «Человек на все времена» (1960) – наиболее известная его работа, основанная на биографии Томаса Мора. Биография Т. Э. Лоуренса послужила основой для пьесы-сценария «Лоуренс Аравийский» (1962).], который отказался от сценария наотрез, но захотел объяснить нам почему. К концу этой встречи я почувствовал, что его аргументы меня более или менее убедили в том, что книга – в том виде, как она написана (или, вернее, напечатана), – не поддается и никогда не сможет поддаться экранизации. (Я вспоминаю о Бобе Болте и его дружелюбной честности с гораздо большим расположением, чем о другом именитом писателе, который отказался делать сценарий на том основании, что не хотел пропагандировать историю, столь пристрастно склоняющую читателя на сторону женщин.)
Только к концу этого долгого периода у нас появилось ощущение, что нам более всего необходимо отыскать брадобрея-лихача – выражаясь более вежливо, человека, достаточно умелого и независимо мыслящего, который смог бы передумать и перестроить все с ног до головы. И опять у нас не было разногласий в том, кто лучше всего мог бы справиться с этой задачей. Это – Гарольд Пинтер[116 - Гарольд Пинтер (1930–2008) – английский поэт и драматург, чьи пьесы отличает необычайная яркость портретов, данных через диалог персонажей; лауреат Нобелевской премии. Пьесы «Комната» (1957), «День рождения» (1958), «Старые времена» (1971), «Ничейная земля» (1975) и другие воспроизводят нюансы разговорной речи и многослойность смыслов, ярко показывая трудности человеческого общения и понимания. Пинтер много пишет для радио и телевидения. Его киносценарии включают киноверсии романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», Дж. Фаулза «Любовница французского лейтенанта» и др.]. Но тут получилось так, что как раз в это время он оказался участником договора о разработке другого проекта, работать в котором было предложено и нам, но – увы! – Пинтер был единственной частью этого проекта, которая нас действительно интересовала, а он – вполне естественно – не захотел бросить ради нас своих будущих партнеров. И, как в случае с Карелом, мы почувствовали, что навсегда утратили свой шанс.
В 1978 году, почти через десять лет после нашего первого к нему обращения, предчувствуя неминуемый провал уже предпринятой очередной попытки, Том снова двинулся к Карелу; на этот раз фортуна была к нам добрее. В этот раз он ответил: «Да!», но с тем предварительным условием, что ему удастся уговорить Гарольда поработать над сценарием. Мы с Томом целую неделю жили как на иголках, пока эти двое обсуждали возможные варианты решения всех проблем. А затем свершилось второе чудо: мы получили сценариста и режиссера, о которых могли только мечтать! Но требовались еще чудеса, и они были нам обеспечены в основном верой, упорством и терпением Карела и его ведущих актеров – Мерил Стрип и Джереми Айронса – в борьбе с необычайно мрачным стечением трудных предэкранизационных обстоятельств. И, наконец, тот день, веру в наступление которого мы почти уже совсем утратили, настал. 27 мая 1980 года Карел встал рядом с командой своих кинооператоров перед коттеджем недалеко от Лайм-Риджиса; слуга Сэм, с букетом цветов в руке, «встал на точку» (занял исходное положение), и волшебное слово было произнесено.
Я ни в коей мере не порицаю тех сценаристов, которые до этого решались ринуться навстречу опасности, говоря, что их попытки не увенчались успехом. Главным камнем преткновения здесь было именно то, о чем я уже говорил и за что ни один писатель не может никого винить: я имею в виду попытки оставаться верным книге. Но «Любовница французского лейтенанта» была написана в тот период, когда у меня стали развиваться очень стойкие и, вероятно, весьма своеобразные взгляды на то, какова истинная сфера кино и какова сфера романа. Разумеется, в обеих этих сферах значительные части могут перекрещиваться друг с другом, поскольку оба этих вида информации по своей сути повествовательны; однако в них есть и такие территории, куда посторонним вход запрещен: видовой ряд, который никакое слово не в силах передать (подумайте, например, об ужасающей скудости человеческого словаря при передаче бесконечных оттенков меняющегося выражения лица!), а ряд словесный никакая камера не сможет снять и никакой актер никогда не сумеет проговорить.
Романы, в которых сознательно используется эта – запретная для кинематографиста (или, говоря по-старинному, для иллюстратора) – область, совершенно очевидно ставят трудные задачи; и единственным результатом «верности» такой книге будет сценарий, до краев переполненный диалогом, который (вовсе не по вине сценариста) совсем не будет диалогом драматическим, а лишь попыткой втиснуть в небольшой чемодан абзацы с описаниями, историческими отступлениями, характеристиками персонажей и всем прочим, для чего и был специально подобран огромный сундук романной формы.
Дело не только в том, что сам язык первоначально возник, чтобы обозначить и «показать» то, что физически не может быть увидено; эволюция романа, особенно в нынешнем веке, а тем более с момента возникновения структурализма и семиологии (то есть более точного знания о природе языка и художественного текста), все больше и больше связана с теми сторонами жизни и с тем образом чувствования, которые никогда не смогут быть переданы визуально. Возможно, не совсем случайно невероятный скачок в возможности изучать и имитировать внешнюю сторону наших восприятий – изобретение движущегося фотоизображения – так точно совпал с погружением в наше внутреннее пространство, начатым Фрейдом и его соратниками. Год 1895-й был свидетелем не только первого показа самого первого кинофильма, но и публикации «Исследования истерии» – то есть рождения психоанализа.
Этот вопрос об истинной сфере – одна из причин того, почему мне теперь нисколько не интересно писать сценарии для фильмов по моим романам. Собрать книгу из весьма значительного и заранее обдуманного числа элементов, которые, как тебе известно, не поддаются экранизации, а затем разобрать ее и переконструировать с теми элементами, которые этому поддаются, – такое занятие лучше оставить на долю мазохиста или нарциссиста. Ясно, что нигде не отыскать дела, более подходящего для стороннего свежего ума. Вторая причина в том, что я понимаю: как многие романисты, я слишком избалован и слишком привык к одинокой свободе прозаика (когда один мегаломаньяк играет и продюсера, и режиссера, и всех актеров, и кинокамеру разом), чтобы хоть сколько-нибудь годиться для работы в коллективе – для коллективного вида искусства, для коллективного вида чего угодно, кстати говоря. Третья причина в том, что настоящие сценаристы – особая раса, занимающаяся своим особым делом. И только тщеславие заставляет других писателей считать, что любой из них может приложить к этому делу руку. Когда-то я и сам думал так же. Но как-то, в один прекрасный день, я уговорил Сидни Кэролла дать мне блистательный сценарий, написанный им совместно с Робертом Россеном (для фильма «Пройдоха»), и разглядел (что и признаю здесь снова) профессиональную лигу, к которой мне никогда не принадлежать.
Еще одна важная проблема с «Любовницей французского лейтенанта» – стереоскопическое видение романа, как выразился один критик, то, что он написан одновременно и с викторианской, и с сегодняшней точек зрения. Ни один из режиссеров, над ним работавших, не захотел обойти эту «диахроническую» дилемму, хотя решения они предлагали самые различные; да, кстати говоря, и продюсеры тоже. Как выразился глава одной из киностудий, ему глубоко неинтересно покупать сегодняшний викторианский роман, когда сотни настоящих, да еще написанных целым корпусом таких потрясающих английских писателей, пылятся за пределами копирайта и могут быть получены ни за грош.
Первоначальное всеобщее решение было воспользоваться приемом, уже опробованным в романе: создать персонаж, который был бы имплицитным автором и в то же время участником викторианского сюжета; персонаж, который мог бы вступать в действие извне, а потом отходить в сторону и его комментировать, примерно так, как Антон Вальбрук делает в знаменитом фильме Макса Офюльса[117 - Макс Офюльс (1902–1957) – немецкий режиссер. Был актером и режиссером в театрах Германии, Австрии, Швейцарии, ставил фильмы в Нидерландах, Франции, США. Основные фильмы: «Флирт» (1932, по роману А. Шницлера), «Карусель» (1950, по роману Шницлера), «Удовольствие» (1953, по рассказам Ги де Мопассана).] «Карусель». Идея мне никогда особенно не нравилась, впрочем, может быть, лишь однажды. Мои пути как-то пересеклись с путями Питера Устинова[118 - Питер Устинов (1921–2004) – английский актер, режиссер, писатель, драматург (русского происхождения). Блестящий юморист и рассказчик. Среди его пьес, в которых ярко отражен его дар сатирической фантазии, «Любовь к четырем полковникам» (1951), «Романов и Джульетта» (1956), а среди многих фильмов, поставленных им самим, – «Спартак» (1960), «Топкапи» (1964), «Смерть на Ниле» (1978).], в невероятных декорациях отеля «Беверли-Хиллз», и мы провели приятнейший вечер, обсуждая эту самую идею. Лучше всего мне помнится целая серия злых и с изумительной мимикой рассказанных анекдотов о гораздо более знаменитом, чем мы оба, писателе (о чьем творчестве я высказал, пожалуй, слишком наивное восхищение). Скептицизм по поводу мотивов романистов вообще и срывание – посредством одного этого примера – их публичных масок, выявление скрытой реальности привлекли меня целиком и полностью на сторону этого блестящего рассказчика. Он остается единственным возможным суррогатом, какой я мог бы вытерпеть в роли автора – инспектора манежа, если бы идея пережила стадию обсуждений.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: