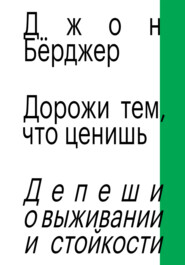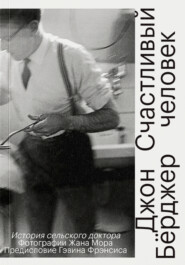По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Портреты (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К. Б. Разве сон, в который комната погружает спящего, не пытается сделать нечто необыкновенное? Сплотить воедино все, что составляет момент.
Дж. Б. Один момент.
К. Б. Все, из чего он соткан: остатки прошлого, строящиеся здания, разнообразные действия, контраст дня и ночи, растения и застывшие, словно в «немой сцене» животные, социальный статус каждого из присутствующих здесь людей, выражения их лиц, морщины, сказанные шепотом реплики в сторону, блуждающие взгляды – и вообще все, все в совокупности, под небом с ангелочками и облаком.
Дж. Б. Тот, кто укладывается спать в этой комнате, может закрыть глаза, примирившись со всеми бесконечно запутанными слоями и уровнями реальности.
К. Б. И, отходя ко сну, будет знать, что всюду вокруг него пример того, как художник имел мужество – да, мужество – осмыслить, принять как данность и включить в картину все эти одновременно существующие слои.
Мантенья похож на ботаника, который берет образец каждого растения, какое встречает на своем пути. На четырех стенах мы видим: абрикос, апельсин, лимон, грушу, персик, яблоко, гранатовое дерево, кедры, платаны, аканты, сосны. Мантенья явно задался целью охватить все, что есть в мире в данный момент.
Только Человек способен разграничить эти слои, процессы и потоки времени и выстроить их иерархию. И аппарат, который у него для этого имеется и который заставляет его все это делать, – его эго. Этот аппарат, самой природой созданный для человека как средство его выживания, не имеет аналогов в той же природе! Это самая смертная часть человека. Когда человек умирает, только эта часть, только этот всё и вся раскладывающий по полочкам аппарат безвозвратно исчезает. Все прочее подлежит утилизации.
Дж. Б. и К. Б. (вместе). Каждый есть каждый.
Дж. Б. Прошлой ночью мне приснился сон. Я нес на плече большую сумку – как, бывало, носил почтальон. Не помню, из чего она была сделана – из кожи или брезента. Должно быть, из какой-то синтетики. В сумке находились все картины Мантеньи (общим числом 112). Но не его фрески. Я вынимал картины из сумки одну за другой, чтобы рассмотреть. Это было легко (ни они сами, ни сумка ничего не весили), и я с удовольствием этим занимался, желая прийти к какому-то решению или заключению. О чем? Не знаю. Проснулся я счастливым.
Окулюс, в который мы сейчас смотрим, не предлагает ни побега, ни возможности уклониться. Мантенья, с его кропотливым усердием и неизменным мужеством, последовательно настаивал на том, что надо прямо смотреть в лицо реальности, не отводя взгляда от происходящего. Окулюс предлагает раствориться.
К. Б. Камера дельи Спози, когда ее оформляли, предназначалась для сна, и в ней есть нечто от Смерти. Но это «нечто» не является ни ригористичным, ни мертвенным. Скорее, оно заключает в себе пример художника, который умел самоустраниться – отважно самоустраниться! – чтобы наблюдать бесконечное число событий и мгновений, из которых соткан мир.
Мантенья ведет им счет, настойчиво суммирует, собирает воедино, создает из них целое. Подводит итог. Он умеет раствориться. Он растворяется сам и растворяет нас в природе. И здесь мне чудится, будто я ложусь и навеки закрываю глаза посреди этих четырех стен, которые осмеливаются подводить итог всему сущему на земле – за пределами человеческого восприятия.
6. Иероним Босх
(ок. 1450–1516)
В истории живописи иногда возникают странные пророчества – пророчества, о которых их автор не помышлял: как если бы зримый мир сам оказался вдруг во власти собственных кошмарных видений. Такова, например, картина Брейгеля «Триумф смерти», написанная в 1560-е годы и находящаяся сейчас в Прадо, – трудно не увидеть в ней жуткого пророчества о нацистских фабриках смерти.
Большинство намеренных пророчеств не сбывается, поскольку история изобретает все новые ужасы (даже если некоторые со временем исчезают), но не в силах изобрести нового счастья: счастье всегда одно, то же, каким было всегда. Меняются только способы борьбы за него.
За полвека до Брейгеля Иероним Босх написал свой триптих «Тысячелетие», который сейчас тоже находится в Прадо. Левая его часть изображает Адама и Еву в раю, большая центральная часть – Сад земных наслаждений, а правая – ад. И этот ад Босха кажется теперь странным пророчеством о том психическом климате, который сложился в мире в конце XX столетия под воздействием глобализации и нового экономического порядка.
Попробую объяснить, что я имею в виду. Все это не имеет отношения к символике картины. Символы Босха, возможно, явились из тайного, образного языка каких-то одержимых проблемой тысячелетия[20 - В Средние века бытовало представление о том, что поскольку мир сотворен за семь дней, то ему предстоит существовать семь тысяч лет, ибо у Бога «тысяча лет как один день». На исходе XV века седьмое тысячелетие от Сотворения мира подошло к концу.] сектантов-еретиков XV века, которые верили, что если зло будет побеждено, то можно построить рай на земле! Аллегориям у Босха посвящено множество исследований.[21 - Одно из наиболее оригинальных, хотя и спорных: Franger W. The Millennium of Hieronymus Bosch. London: Faber & Faber, 1952. – Примеч. автора.] Но если босховское видение ада и впрямь пророческое, то пророчество заключено не в деталях, какими бы пугающими и гротескными они ни были, а в целом. Другими словами, в том, что создает пространство ада.
На картине нет горизонта. Нет связи между отдельными действиями, нет пауз, нет путей, нет плана, нет прошлого и нет будущего. Есть только оглушительная какофония разъятого, фрагментированного настоящего. На каждом шагу ошеломление и шок, но нигде нет выхода. Ничто никуда не перетекает, все прерывается. Какой-то пространственный бред.
Теперь сравним это пространство с тем, что мы видим в любой рекламной паузе или в типичном выпуске новостей Си-эн-эн, да и в любом новостном обзоре средств массовой информации. Мы обнаружим немало общего: та же бессвязность, дикая мешанина разрозненных моментов возбуждения, то же безумие.
Пророчество Босха в том, что он явил картину мира так, как ее рисуют нам теперь под воздействием глобализации всевозможные массмедиа с их антиобщественной по сути потребностью непрерывно что-то продавать. И тут и там картина напоминает пазл – когда проклятые кусочки никак не приладить друг к другу.
Именно это слово – пазл – употребил субкоманданте Маркос в присланном год назад письме о новом миропорядке… Он писал из мексиканского штата Чьяпас на юго-востоке страны.[22 - Письмо было опубликовано в августе 1997 года несколькими изданиями, см. особенно: Le Monde Diplomatique, Paris. – Примеч. автора.] Маркос считает, что сегодня наша планета представляет собой поле битвы четвертой мировой войны (третьей он называет холодную войну). Целью тех, кто развязал войну, является завоевание мира посредством универсализации рынка. Хотя главным оружием служат финансы, ежеминутно миллионы людей получают увечья и гибнут. Война ведется ради того, чтобы беспрепятственно править миром из новых, абстрактных центров власти – мегаполисов рынка, которые руководствовались бы исключительно логикой инвестиций. Между тем девять десятых населения планеты довольствуются разрозненными фрагментами пазла, которые невозможно приладить друг к другу.
«Разрозненность» картины Босха так отчетливо перекликается с этим образом, что я бы не удивился, обнаружив на ней семь упомянутых Маркосом фрагментов.
Первый из них – зеленый, со знаком доллара. Суть его состоит в невиданной прежде концентрации глобального богатства в руках все меньшего и меньшего числа людей и беспрецедентном расширении безнадежной бедности.
Второй фрагмент – треугольный, он состоит из лжи. Новый порядок провозглашает, что он рационализирует и модернизирует производство и человеческий труд. В действительности же мы возвращаемся к варварству начального этапа индустриальной революции, с той лишь разницей, что теперь варварству не противостоят никакие этические нормы и моральные принципы. Новый порядок фанатичен и тоталитарен. (Внутри системы невозможны апелляции. Тоталитарность заключена не в политике, которая при новом мироустройстве должна отступить на второй план, а в глобальном финансовом контроле.) Посмотрите на детей. Сто миллионов детей в мире живут на улице. Двести миллионов вовлечены в глобальный рынок труда.
Третий фрагмент – круглый, как порочный круг. Это вынужденная эмиграция. Наиболее предприимчивые из тех, у кого ничего нет, пытаются эмигрировать, чтобы выжить. Однако новый порядок работает день и ночь в соответствии с принципом, согласно которому человек, если он ничего не производит, ничего не потребляет и не имеет денег в банке, – лишний на этом свете. Вот почему эмигранты, безземельные и бездомные, рассматриваются как отходы системы и подлежат уничтожению.
Четвертый фрагмент – четырехугольный, как зеркало. Он представляет контакты между коммерческими банками и мировыми рэкетирами, поскольку преступность тоже глобализировалась.
Пятый фрагмент напоминает пятиугольник, или пентагон. Это физическое насилие. Национальные государства при новом порядке утратили свою экономическую независимость, политическую инициативу и суверенитет. (Новая риторика большинства политиков сводится к попытке замаскировать свое политическое – не путать с репрессивным – бессилие.) Новая задача национальных государств – управлять тем, что им выделено, защищать интересы рыночных мегакорпораций, а главное – держать под контролем всех «лишних», применяя к ним полицейские меры.
Шестой фрагмент имеет форму невнятной закорючки, он сплошь состоит из осколков. С одной стороны, новый порядок стирает границы и расстояния с помощью мгновенных телекоммуникационных потоков и сделок, с помощью навязанных зон свободной торговли (НАФТА) и повсеместного применения единого неоспоримого закона рынка; а с другой стороны, он провоцирует раздробление и, как следствие, умножение границ, подрывая Национальное Государство, – возьмите бывший Советский Союз, Югославию и т. д. «Мир разбитых зеркал, – пишет Маркос, – отражающий бесполезность единого неолиберального пазла».
Седьмой фрагмент этого пазла имеет форму кармана и состоит из самых разнообразных очагов сопротивления новому порядку, которые возникают по всему миру. Сапатисты в юго-восточной Мексике – один из таких «карманов». Другие, в иных обстоятельствах, не обязательно выбирают путь вооруженного сопротивления. У множества очагов нет общей политической программы. Да и откуда ей взяться, если они существуют внутри разбитого пазла? Тем не менее сама их разнородность, возможно, дает надежду на будущее. Общее у них – это защита «лишних», обреченных, подлежащих уничтожению, и вера в то, что четвертая мировая война – преступление против человечности.
Все семь фрагментов никогда не удастся приладить друг к другу так, чтобы получилась осмысленная картина. Это отсутствие смысла, абсурд – специфическая черта нового порядка. Как предвидел Босх в своем видении ада, тут нет горизонта. Мир в огне. Каждая фигура пытается выжить, сосредоточившись на своих сиюсекундных нуждах. Предельная клаустрофобия обусловлена не скоплением людей, а отсутствием связи между тем, что делает один, и тем, что делает находящийся рядом с ним на расстоянии вытянутой руки. Вот в чем состоит ад.
Культура, в которой мы живем, возможно, является самой клаустрофобической из всех когда-либо существовавших. В мире глобализации, как в босховском аду, нет проблеска иного места или возможности поступать иным образом. Данность есть тюрьма. Столкнувшись с подобным редукционизмом, человеческий разум сменяется алчностью.
Маркос заканчивает свое письмо такими словами: «Необходимо построить новый мир, способный вобрать в себе много миров, способный объять все миры».
Картина Босха напоминает нам – если только пророчества можно считать напоминаниями, – что первым шагом к построению альтернативного порядка должен стать отказ от внедренной в наше сознание картины мира, от всех фальшивых обещаний, которые щедро раздаются для того, чтобы оправдать и идеализировать антиобщественную, торгашескую жажду продаж. Нам жизненно необходимо иное пространство.
Во-первых, нужно открыть для себя горизонт. А для этого следует заново обрести надежду – вопреки всему тому, на что претендует и что творит новый порядок.
Надежда, однако, есть акт веры, и она должна быть поддержана другими, конкретными поступками. Например, поступком сближения, измерения разделяющих нас расстояний и движения навстречу. Это приведет к сотрудничеству, которое преодолевает разобщенность. Акт сопротивления означает не только отказ принять абсурдность навязанной нам картины мира, но и ее разоблачение. А когда ад будет разоблачен изнутри, он перестанет быть адом.
В существующих сегодня очагах сопротивления при свете факела в темноте можно изучать две другие части триптиха Босха, рисующие Адама и Еву и Сад земных наслаждений… Ведь мы так нуждаемся в них.
Я хотел бы процитировать снова аргентинского поэта Хуана Хельмана:[23 - Gelman J. Unthinkable Tenderness / Translated from the Spanish by Joan Lindgren. University of California Press, 1997. – Примеч. автора.]
смерть явилась со свидетельством о себе самой
нам снова пора подниматься
на борьбу
снова пора выступать
снова пора выступать всем нам
против великого поражения мира
всем компаньерос,[24 - Товарищи (исп.).] которым нет числа
или
которых огнем жжет память
снова
и снова
и снова
7. Питер Брейгель Старший
(ок. 1525–1569)
Когда мы думаем о Леонардо да Винчи, у нас поднимается настроение. Леонардо – вершина человеческого духа, окутанная облаком тайны (можно выразить эту мысль иначе, но смысл будет тот же). Рембрандт – прямая его противоположность: он олицетворяет муки и мытарства гения. Когда мы думаем о Рембрандте, мы становимся милосерднее к тем, кто нас не понимает. Таким образом, мы заставляем искусство нас утешать и сами не остаемся в долгу, называя его прекрасным.
Из всех великих самым неподходящим для этой цели оказывается Брейгель. Конечно, его часто представляют как художника, который изображал веселых танцующих крестьян и простодушные рождественские сценки на фоне заснеженного пейзажа. Но никому не удается дать убедительный пример его гениальности или его страданий. В сущности, ни то ни другое обычно не упоминается, и в сознании остается только призрак идеи, которую мы не решаемся даже высказать: Брейгель был, наверное, простоват.
Неудобная правда заключается в том, что Брейгель – один из самых суровых и беспощадных художников в истории. Создавая картину за картиной, он словно собирал доказательства для обвинений, хотя вряд ли мог надеяться, что они когда-либо будут предъявлены.
Другие электронные книги автора Джон Бёрджер
Другие аудиокниги автора Джон Бёрджер
Поле




 0
0