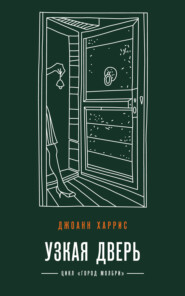По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пять четвертинок апельсина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В сарайчике у старого причала Поль Уриа торгует наживкой и рыболовными снастями; это, как мы говорили в детстве, в полуплевке от того места, где Кассис, Поль и я обычно ловили рыбу и где Жаннетт Годен укусила водяная змея. У ног Поля лежит старый пес, невероятно похожий на ту коричневую дворняжку, что в былые времена повсюду его сопровождала, а сам Поль неотрывно смотрит на воду, на леску с наживкой, словно надеется что-то поймать.
Интересно, а он-то помнит? Иногда я замечаю, как он смотрит на меня – в моей блинной он самый постоянный посетитель, – и я, пожалуй, почти уверена, что он все помнит отлично. Он постарел, конечно. Как и все мы. Его круглое, лунообразное лицо потемнело, обвисло и приобрело какое-то похоронное выражение, которое усугубляют вислые усы цвета жеваного табака. В зубах у него вечно зажата сигарета. Он редко что-то говорит – впрочем, он никогда общительностью не отличался, – но смотрит на меня всегда очень внимательно, и в глазах у него какая-то собачья преданность и печаль; темно-синий берет, как и прежде, сдвинут на одно ухо. Ему нравятся мои блинчики и мой сидр. Возможно, именно поэтому он так мне ни слова и не сказал. Да он и не любитель устраивать сцены.
4
Блинную я открыла лишь через четыре года после своего возвращения в Ле-Лавёз. К этому времени мне уже и деньжонок удалось поднакопить, и постоянные покупатели у меня появились, да и в деревне меня худо-бедно приняли. А для работы на ферме я наняла парня из Курле, не из местных, к нашим знаменитым семьям он отношения не имеет. Обслуживать клиентов в кафе мне помогает молоденькая Лиз. Сначала я поставила всего пять столиков – здесь ведь самое главное казаться незаметной, хотя бы сперва, и ни у кого не вызывать подозрений своим неожиданным «процветанием», – но вскоре количество столиков пришлось удвоить, а в погожие дни мы с Лиз размещали столики еще и на террасе перед домом. У меня все просто. И меню весьма небогатое: блинчики из гречневой муки с разнообразными начинками плюс одно основное блюдо, правда, каждый день новое, и несколько десертов. Так что с готовкой я вполне сама справляюсь, а Лиз принимает заказы и подает кушанья. Я назвала свое заведение «Cr?pe Framboise»[11 - «Блинчик с малиной» (фр.).] по своему фирменному блюду – сладким блинчикам с малиновым coulis[12 - Подливка; здесь сироп (фр.).] и домашней наливкой. И я, улыбаясь про себя, думала: интересно, как бы они отреагировали, если б узнали? А ведь кое-кто из постоянных посетителей вскоре даже стал называть мое заведение «Chez Framboise»[13 - «У Фрамбуазы» (фр.).], и это еще больше меня веселило.
Как раз в то время на меня опять стали поглядывать мужчины. Видите ли, по меркам Ле-Лавёз я была женщиной вполне обеспеченной и еще не старой. В конце концов, мне исполнилось тогда всего пятьдесят. И потом, всем было известно, что я не только хорошо готовлю, но и дом содержу в полном порядке. Вот многие и начали за мной вроде как ухаживать; некоторые и впрямь были люди неплохие, вроде Жильбера Дюпре или Жана-Луи Леласьяна, но попадались и такие лентяи и бездари, как Рамбер Лекоз, который только и мечтает кому-нибудь сесть на шею, чтоб его до конца жизни вкусно и бесплатно кормили. Внимание ко мне проявлял даже Поль, милый Поль Уриа со своими вислыми, выцветшими от никотина усами, наш вечный молчун. Разумеется, сама я ни о чем таком не помышляла. Нет уж, решила я, больше подобной глупости ни за что не совершу. Хотя порой в душе и шевелились горькие сожаления. Но теперь у меня имелось собственное дело, я стала хозяйкой материной фермы; да и воспоминания о прошлом никогда меня не оставляли. А заведи я мужа, и со всем этим пришлось бы проститься. Ведь в таком случае вряд ли мне удалось бы и дальше скрывать, кто я такая на самом деле. И даже если б жители деревни простили мне мое происхождение, то этих пяти лет обмана они бы не простили мне никогда. Так что я всем своим ухажерам отказывала, вела себя осторожно и мудро, и в итоге меня сперва сочли безутешной вдовой, затем неприступной крепостью, а еще через несколько лет – попросту старухой.
Теперь-то я почти десять лет живу в Ле-Лавёз. И в последние годы стала приглашать к себе на лето Писташ с семьей – они уж лет пять, наверно, ко мне ездят. Приятно смотреть, как детишки растут и превращаются из смешных глазастых свертков в настоящих маленьких человечков, похожих на ярко окрашенных птичек, так и снующих по моему саду и лугу на своих невидимых крыльях. Писташ всегда была очень хорошей дочерью. А вот Нуазетт, моя тайная любимица, больше напоминает меня: такая же скрытная, такая же бунтарка, и глаза у нее такие же черные, и душа так же полна жажды свободы и неповиновения. Я могла бы, наверно, остановить ее, не дать ей уехать – возможно, хватило бы одного слова, одной улыбки, – но я ничего не сделала из опасения, что она станет относиться ко мне так же, как я к своей матери. Письма от нее приходят равнодушные, написанные как бы по обязанности. Замужество ее закончилось плохо. Она работает официанткой в круглосуточном кафе в Монреале. Когда я предлагаю ей деньги, она отказывается. А Писташ… Такой, как Писташ, могла бы стать наша Ренетт: такой же пухленькой, доверчивой и нежной, так же обожающей своих детей и яростно бросающейся на их защиту. У Писташ мягкие каштановые волосы, а глаза зеленоватые, как ядрышко того ореха, в честь которого она и получила свое имя. Благодаря Писташ и ее детям я многому научилась и теперь как бы вновь проживаю с ними самые лучшие, самые счастливые мгновения собственного детства.
Ради своих внуков я снова научилась быть матерью семейства, печь блинчики и толстые «пальчики» с травами и яблочной начинкой. Я варила для них варенье из инжира и из зеленых помидоров, из кислой вишни и из айвы. Я позволяла им играть с маленькими коричневыми проказливыми козочками и угощать их сухариками и кусочками морковки. Мы вместе кормили кур, гладили мягкие лошадиные морды, собирали щавель для кроликов. Я показала им реку, научила доплывать до солнечных отмелей. Скрепя сердце я разрешила им это, предупредив обо всех опасностях – змеях, корнях, водоворотах, омутах, зыбучих песках, – и заставила клятвенно пообещать, что они никогда-никогда не будут одни купаться в таких опасных местах. Я показала им самые лучшие грибные места в лесу, научила отличать настоящую лисичку от ложной и, приподнимая листья черничных кустиков, угощала их вкусными кисленькими ягодами. Именно таким должно было быть детство и у моих дочерей. А вместо этого у них было дикое побережье в северном Арморике – там мы с Эрве жили какое-то время, – пляжи, продуваемые всеми ветрами, сосновые леса и мрачные каменные дома, крытые шифером. Я старалась быть им хорошей матерью, честно старалась, и все же постоянно чувствовала, что в наших отношениях чего-то не хватает. Теперь я понимаю: нам не хватало вот этого самого дома, этой фермы, этих полей и сонной вонючей Луары – в общем, не хватало Ле-Лавёз. Вот чего мне хотелось для своих дочерей. И я начала все сначала – уже со своими внуками. С ними я всегда была снисходительной, как бы оправдывая этой снисходительностью себя прежнюю.
Мне приятно думать, что и моя мать, будь у нее такая возможность, поступала бы так же. Я представляю ее себе этакой безмятежной старушкой, спокойно принимающей любые мои упреки: «Нет, правда же, мам, ты мне совершенно испортишь детей!» А она выслушает меня и, не испытывая ни малейшего раскаяния, весело им подмигнет. Теперь мне все это отнюдь не кажется таким уж невозможным, как казалось когда-то. Или, может, я просто заново ее выдумываю? Может, на самом деле она была именно такой, какой я помню ее: женщиной с каменным лицом, которая никогда не улыбается и следит за мной равнодушными, но какими-то странно голодными глазами?
Внучек своих она никогда не видела; она даже не знала, что они существуют. Эрве я сказала, что мои родители умерли, и он никогда не сомневался в этом. У него самого отец был рыбаком, а мать, маленькая, кругленькая, похожая на куропатку, продавала пойманную им рыбу на рынке. Я завернулась в их доброе ко мне отношение, точно в чье-то чужое теплое одеяло, прекрасно понимая, что однажды так или иначе буду вынуждена вернуться к прежней, холодной жизни без них. Эрве был очень хорошим человеком, спокойным и начисто лишенным тех острых граней, о которые я могла бы порезаться. Я любила его – не как Томаса, не с той иссушающей душу отчаянной страстью, но все-таки достаточно сильно.
Когда в 1975 году он умер – в него попала молния, когда они с отцом отправились ловить угрей, – я сильно горевала, но горе мое было словно приправлено некой неизбежностью, почти облегчением. Да, мы с ним прожили хорошую жизнь, но она закончилась. А моя жизнь – моя собственная жизнь – продолжалась. Я вернулась в Ле-Лавёз через полтора года после смерти Эрве с таким ощущением, будто проснулась после затянувшегося сна без сновидений.
Вам может показаться странным, что я столь долго ждала, прежде чем тщательно познакомиться с материным альбомом. Если не считать черного трюфеля (из Перигё), альбом был моим единственным законным наследством, а я целых пять лет туда не заглядывала. Разумеется, многие рецепты я и так знала наизусть, мне вовсе не нужно было в них вчитываться, и все-таки. Я ведь даже не присутствовала при оглашении завещания. Я даже не могу сказать, в какой точно день мать умерла, хотя мне известно, где именно: в Витре, в доме престарелых. От рака желудка. Там ее и похоронили, но сама я на тамошнем кладбище побывала лишь однажды. Нашла могилу матери у самой дальней стены возле мусорных баков. На ней написано: «Мирабель Дартижан» – и указаны даты рождения и смерти. С некоторым удивлением я обнаружила, что мать зачем-то лгала нам насчет своего возраста.
Собственно, я и сама толком не знаю, что меня подвигло на внимательное изучение материного альбома. Это случилось в мое первое лето в Ле-Лавёз, когда я приехала туда после смерти Эрве. Стояла засуха; вода в Луаре опустилась, наверно, метра на два ниже обычного уровня, обнажив уродливые извивы старого русла и придонные выступы, напоминавшие сточенные пеньки гнилых зубов. Из обмелевших берегов тянулись к воде корни, желтовато-белые, словно выгоревшие на солнце; среди этих корней на песке играли дети, бегая босиком по зловонным коричневым лужам и вылавливая палками плывущий вниз по течению мусор. До того лета я старалась не заглядывать в материн альбом; даже при мысли о нем я чувствовала себя странно виноватой, словно я украдкой за ней подглядываю, а она вот-вот войдет и увидит, что я «опять сую нос» в ее странные тайны. Хотя на самом деле мне вовсе и не хотелось выведывать ее тайны. Какой-то внутренний голос твердил мне, что это нехорошо, что этого делать нельзя, что это не лучше, чем прокрасться ночью в спальню родителей и услышать, как они занимаются любовью. В общем, мне понадобилось более десяти лет, чтобы понять: голос, предостерегающе звучавший у меня в ушах, принадлежал не моей матери, а мне самой.
Как я уже говорила, большую часть ее записей разобрать оказалось практически невозможно. Тот странный язык, очень похожий на итальянский, но только совершенно непроизносимый, который использовала мать, был мне совершенно незнаком; и после нескольких неудачных попыток расшифровать записи я бросила эту затею как совершенно бессмысленную. Рецепты блюд, впрочем, читались легко, они представляли собой либо вырезки из газет, либо были вполне четко написаны синими или фиолетовыми чернилами; но прочие ее небрежные каракули – стихи, рисунки, какие-то подсчеты, вставленные между рецептами или рядом с ними, – я толком разобрать так и не сумела; даже те записи, которые можно было прочесть, хотя и с трудом, мать делала без малейшего намека на логику и совершенно беспорядочно.
«Видела сегодня Гильерма Рамондена. С новой деревянной ногой. Р.-К. так на эту ногу уставилась, что он засмеялся. И когда она спросила: "А вам не больно?", ответил, что ему даже повезло: во-первых, его отец, башмачник, все больше деревянные сабо мастерит и хлопот с сыном теперь вполовину меньше, ведь ему только одна "деревяшка" и нужна, ха-ха-ха! Во-вторых, прибавил он, и вполовину меньше опасности, что во время вальса я отдавлю тебе пальцы, моя красавица. А я все думаю: какова его культя изнутри, в подколотой пустой штанине? Она, наверно, напоминает недопеченный пудинг, перевязанный куском бечевки. Пришлось губу прикусить, чтобы не расхохотаться прямо ему в лицо».
Все это написано мелким почерком над рецептом белого пудинга. Мне от подобных «смешных» историй каждый раз становилось не по себе.
А о своих фруктовых деревьях мать упоминает в разных местах и каждый раз так, словно это живые люди: «Всю ночь бодрствовала вместе с Прекрасной Ивонной; она совсем больна, видно, простудилась в эти холода, бедняжка». Зато о нас, своих детях, она говорит редко, обозначая сокращениями: Р.-К., Касс. и Фра, а об отце в ее дневнике и вовсе ни слова. Нигде. Много лет я пыталась понять почему. Хотя тогда я еще не могла прочесть другие, тайные ее записи. В общем, если судить по ее дневнику, мой отец, которого я очень мало знала и плохо о нем помнила, словно и не существовал вовсе.
5
Потом началась эта история со статьей. Сама-то я, если честно, ее не читала; она была опубликована в таком журнале, где еда и ее приготовление преподносятся как модное веяние, как атрибут современного стиля жизни: «В этом году, дорогая, все едят кускус, это просто de rigueur[14 - Обязательный, диктуемый существующими условиями или модой (фр.).]». Ну а для меня еда – это еда, это чувственное, хотя и мимолетное удовольствие, порой эфемерное, как огни фейерверка, но почти всегда требующее немалых усилий. Впрочем, не следует воспринимать слишком серьезно и эти усилия, и сам процесс поглощения пищи. Господи, это же, в конце концов, не искусство! Съел – и все, проглотил – а с другого конца вышло. Короче, в одном из этих модных журналов появилась статья, называвшаяся то ли «Вниз по Луаре», то ли что-то подобное. Один знаменитый шеф-повар решил, двигаясь по направлению к побережью, посетить большую часть местных ресторанов и сравнить их. Он и ко мне заходил; я хорошо его запомнила: такой тощий, маленький, с собственными солонкой и перечницей в салфетке и с записной книжкой на коленях. Он отведал у меня паэлью по-антильски, салат с теплыми артишоками, затем угостился сахарно-масляным печеньем по материному рецепту с шипучим сидром моего приготовления и завершил трапезу рюмочкой малиновой наливки. А потом прямо-таки засыпал меня вопросами; его интересовали не только мои кулинарные рецепты, но и сама моя кухня, а также сад; он был совершенно потрясен, когда я показала ему погреб, где все полки заставлены всякими terrines[15 - Мясные заготовки и паштеты (фр.).], консервированными овощами и фруктами, а также ароматизированными маслами – с грецким орехом, с розмарином, с трюфелями – и бутылочками с разнообразным душистым уксусом, земляничным, лавандовым, яблочным. Он все допытывался, где я училась да где стажировалась; его, судя по всему, почти огорчило, когда в ответ на эти вопросы я только рассмеялась.
Пожалуй, я слишком много ему показала и рассказала. Но видите ли, мне так польстило его внимание. Вот я и принялась предлагать ему: попробуйте то, попробуйте это. Ломтик rillettes[16 - Котлетки из мелкорубленой свинины или гусятины, обжаренные в сале (фр.).], ломтик saucisson sec[17 - Сухие колбаски домашнего приготовления (фр.).], глоточек моего грушевого ликера – той самой грушевки, которую мать обычно готовила в октябре из падалицы, сбитой ветром и уже начинавшей подгнивать. Эти груши, лежавшие на теплой земле, бывали настолько облеплены коричневыми осами, что приходилось пользоваться специальными деревянными щипцами, чтобы их подобрать. Я показала ему даже тот трюфель, который мать оставила мне в наследство; по-прежнему бережно мною хранимый, он плавал в масле и напоминал муху, застрявшую в куске янтаря. Гость изумленно уставился на трюфель, и я не смогла сдержать улыбку.
– Вы хоть представляете, сколько это может стоить? – спросил он.
Да уж, тщеславию моему он, безусловно, польстил. А может, я просто чувствовала себя тогда немного одинокой, вот и рада была поговорить с человеком, который так хорошо меня понимал. Который смог, например, перечислить травы, положенные в terrine, попробовав всего лишь кусочек; который сказал, что я слишком хорошо готовлю, чтобы прозябать в подобной дыре, что это просто преступление – зарывать в землю такой талант. Возможно, я немного размечталась. Надо было, конечно, получше соображать.
А несколько месяцев спустя и появилась статья. Кто-то принес ее мне, выдрав из журнала. Фотография моей cr?perie[18 - Блинная (фр.).], несколько абзацев, посвященных мне.
«Те, кто приезжает в Анже в поисках аутентичной кухни и всевозможных лакомств, могут, разумеется, сразу направиться в престижный ресторан "Деликатесы Дессанж". Но в таком случае они наверняка пропустят одно из самых потрясающих открытий, которые я сделал во время своего путешествия по Луаре…» Читая это, я лихорадочно пыталась вспомнить, говорила ли я что-нибудь о Яннике. «…За непритязательным фасадом обычной деревенской фермы творятся настоящие чудеса кулинарии…» Дальше следовала всякая чушь насчет того, что «креативный гений этой дамы придал новый импульс сельским традициям». Нетерпеливо, чувствуя, как мою душу охватывает панический ужас, я скользила взглядом по строкам в поисках неизбежного. Одно-единственное упоминание фамилии Дартижан – и все мои столь тщательно возведенные бастионы зашатаются.
Может показаться, что я преувеличиваю. Ничего подобного. В Ле-Лавёз войну помнят очень хорошо. Там еще есть люди, которые до сих пор друг с другом не разговаривают. Например, Дениз Мориак с Люсиль Дюпре или Жан-Мари Боне с Коленом Брассо. А в Анже всего несколько лет назад нашли старую женщину, запертую в чердачном помещении над квартирой, что находилась на верхнем этаже. Не помните? Ее там заперли родители еще в 1945 году, узнав, что она сотрудничала с немцами. Ей было тогда всего шестнадцать лет. И вот через пятьдесят лет, когда ее отец наконец окочурился, беднягу выпустили оттуда, старую и безумную.
А как насчет тех стариков – некоторым из них восемьдесят, а то и девяносто, – которых судят как бывших военных преступников? Теперь это слепые старцы, больные, страдающие деменцией, с вечной счастливой улыбкой на лице и бессмысленным взглядом. Невозможно поверить, что и они когда-то были молоды. Невозможно представить себе, какие кровавые мысли таились в этих, ставших такими хрупкими, черепах, в этих мозгах, ныне лишенных памяти. Разбей сосуд, и его содержимое утечет от тебя. Всякое преступление живет своей жизнью и требует своего оправдания.
«По странному совпадению, – читала я дальше, – хозяйка блинной "Cr?pe Framboise", мадам Франсуаза Симон, оказалась родственницей хозяйки ресторана "Деликатесы Дессанж"…» У меня перехватило дыхание. Мне показалось, будто я случайно вдохнула пламя. А потом вдруг возникло ощущение, что я тону, коричневые воды реки тянут меня на дно, но языки пламени по-прежнему лижут мне глотку, проникают в легкие. «Да-да, нашей дорогой Лоры Дессанж! Странно, что она до сих пор не удосужилась выведать кулинарные секреты своей двоюродной бабушки. Я, например, безусловно предпочту непритязательное очарование "Cr?pe Framboise" любому из весьма элегантных – но таких малосъедобных! – деликатесов Лоры».
Я снова обрела способность дышать. Значит, племянница, а не племянник. Значит, мне все-таки удалось сохранить свою тайну.
С тех пор я дала себе обещание: больше никаких глупостей, никаких бесед с добрыми джентльменами, пишущими о кулинарии! Через неделю ко мне явился фотограф из другого парижского журнала, но разговаривать с ним я отказалась. Просьбы об интервью, приходившие по почте, я попросту игнорировала. Мне написал какой-то издатель, предлагая издать книгу кулинарных рецептов. Впервые в «Cr?pe Framboise» был такой наплыв посетителей – и специально прибывших из Анже, и просто туристов, проезжавших мимо; это были элегантные господа на сверкающих новеньких автомобилях. Я дюжинами отсылала их прочь. У меня имелись постоянные клиенты и привычное количество столиков – от десяти до пятнадцати, – и такое дикое количество людей я была просто не в состоянии обслужить.
Вести себя я старалась естественно. Но предварительные заказы принимать отказывалась, и люди выстраивались перед блинной в очередь. Пришлось пригласить еще одну официантку. И все же я не обращала внимания на столь внезапно возникшее и неприятное мне повышенное внимание к моему кафе. И когда снова приехал тот маленький человечек, пишущий о кулинарии, с которого все и началось, да еще и принялся со мною спорить, взывая к моему разуму, я даже слушать его не пожелала. Нет, сказала я, не позволю вам использовать мои рецепты в вашей газетной колонке. И никакой книги по кулинарии я писать не буду. И никаких фотографий здесь делать не разрешу. «Cr?pe Framboise» останется тем, чем и была: обыкновенной деревенской блинной.
Я понимала: если я буду тверда, как скала, и сумею продержаться достаточно долго, они в итоге оставят меня в покое. Но, увы, непоправимое уже свершилось: Лора и Янник знали теперь, где меня найти.
Кассис наверняка все им рассказал. Он давно уже поселился в Анже, в квартирке неподалеку от центра. На письма он, правда, никогда не был особенно щедр, но все же время от времени писал мне. Эти письма состояли в основном из похвал в адрес его знаменитой невестки и замечательного сынка. В общем, после той статьи и последовавшей шумихи Лора и Янник решили во что бы то ни стало меня разыскать. А в качестве «неожиданного подарка» притащили с собой Кассиса. Видно, думали, что мы растрогаемся после стольких лет разлуки. Но хоть у Кассиса глаза и слезились, как у всех старых ревматиков, мои-то остались совершенно сухими. Да в нем, собственно, почти ничего и не сохранилось от моего старшего брата, к которому я когда-то была сильно привязана; он растолстел, черты лица расплылись и потонули в тестообразных щеках, нос покраснел, щеки покрылись паутиной фиолетовых сосудов, улыбка стала какой-то неуверенной. Те чувства, которые я испытывала к нему в детстве, считая его, своего старшего брата, героем, который может все – залезть на самое высокое дерево, прогнать диких пчел и украсть мед из улья, запросто переплыть Луару в самом широком месте, – теперь сменились легкой ностальгией по прошлому, обладавшей, к сожалению, изрядным привкусом презрения. Все это, в конце концов, было так давно. И этот толстяк, которого я увидела в дверях своего дома, казался мне совершенно чужим человеком.
Сперва они повели себя очень умно. Они ничего у меня не просили. Лишь выразили беспокойство по поводу того, что я живу совершенно одна, и преподнесли мне подарки: кухонный комбайн, страшно удивившись, что у меня до сих пор его нет, зимнее пальто и радиоприемник. И предложили съездить куда-нибудь вместе. А однажды даже пригласили меня в свой ресторан, больше похожий на просторный сарай, со столиками из искусственного мрамора, накрытыми клетчатыми бумажными скатерками, с неоновыми огнями, с сушеной морской звездой и ярко раскрашенными пластмассовыми крабами, «запутавшимися» в рыбацких сетях, развешанных по стенам. Я что-то такое буркнула насчет подобного интерьера, хотя и несколько неуверенно, и Лора тут же принялась объяснять мне, ласково похлопывая меня по руке:
– А это, тетушка, как раз и называется «китч». Вряд ли вам подобные вещи могут понравиться, но в Париже, поверьте, это сейчас очень модно.
И она улыбнулась мне, продемонстрировав все свои зубы. Зубы у нее были очень белые и очень крупные, а волосы – цвета только что смолотого перца. Они с Янником то и дело прямо на людях обнимались и целовались, и меня, должна сказать, это здорово смущало. А еда у них в ресторане была… современная, наверно. Тут я не судья. Какой-то салат с довольно убогой заправкой: много разных овощей, порезанных в виде мелких цветочков. Может, немного цикория там и было, но в целом – ничего особенного, в основном просто старые салат-латук, редиска и морковь причудливых форм. Затем подали кусок трески – неплохой, должна признать, но очень маленький – с белым винным соусом, луком-шалотом и листочком мяты, что, по-моему, было совершенно лишним. На десерт предложили тонюсенький ломтик грушевого тортика, зачем-то политый шоколадным соусом и посыпанный сахарной пудрой и шоколадной стружкой. Просматривая меню, я обратила внимание на то, сколько там всякой самодовольной чуши, например «нугатин из разных сортов печенья на соблазнительной основе из тончайшего теста, украшенный шоколадной глазурью и пикантной подливой из абрикосов». Я-то думала, что мне принесут обычный пирог-флорентин, но этот «нугатин» оказался не больше пятифранковой монетки. А ведь так все было расписано, будто это угощение им сам Моисей с горы принес! А уж цена! В пять раз дороже самого дорогого из моих кушаний, и это еще без вина. Я-то, конечно, ни за что не платила. Однако мне сразу закралась в голову мысль о том, что за столь внезапное внимание со стороны Лоры и Янника мне еще придется расплачиваться.
Так оно и вышло.
Через два месяца поступило первое предложение. Я получу тысячу франков, если передам им свой рецепт paella antillaise и позволю вставить это блюдо в меню их ресторана. «Паэлья по-антильски от тетушки Фрамбуазы», упомянутая Жюлем Лемаршаном в июльском номере «H?te et Cuisine»[19 - «Хозяйка и кухня» (фр.).] за 1991 год. Сперва я решила, что это шутка. «Нежнейшая смесь свежих даров моря, вкус которых оттеняют зеленые бананы, ананас, мускатель и рис, слегка приправленный шафраном». Прочитав это, я рассмеялась. Да что у них, собственных рецептов не хватает?
– Не смейтесь, тетушка, – произнес Янник почти сердито; его блестящие черные глаза были совсем близко и смотрели на меня в упор. – Мы с Лорой действительно были бы вам очень благодарны.
И он широко улыбнулся мне.
– Вы, тетушка, не смущайтесь. – Лучше б они так меня не называли! Лора обняла меня за плечи холодной голой рукой. – Уж я позабочусь, чтобы все знали: это ваш рецепт.
Они так просили, что я не выдержала. Собственно, я не против, чтоб и другие готовили по моим рецептам; в конце концов, с жителями Ле-Лавёз я уже много чем поделилась. Я бы и Лоре с Янником могла рассказать, как готовить эту «паэлью по-антильски», и подарить еще сколько угодно других рецептов, но при условии, что никаких «тетушек Фрамбуаз» они в меню упоминать не будут. Построив себе спасительную норку, я вовсе не имела намерения привлекать к ней чье-то ненужное внимание.
Они моментально согласились со всеми моими требованиями и почти даже не спорили; но через три недели в «H?te et Cuisine» был опубликован рецепт «паэльи по-антильски от тетушки Фрамбуазы» в сопровождении восторженной статьи Лоры Дессанж. «Надеюсь, что вскоре смогу поведать вам и еще кое-какие чудесные рецепты сельской кухни, которыми обещала с нами поделиться тетушка Фрамбуаза, – писала она. – А пока вы можете попробовать наши блюда в "Деликатесах Дессанж", улица Ромарен, Анже».
Полагаю, им и в голову не пришло, что я могу эту статью прочесть. А может, просто решили, что я совсем не то имела в виду, когда велела им не упоминать о «тетушке Фрамбуазе», и, когда я ткнула им в нос эту статью, принялись извиняться, как дети, пойманные на очаровательной шалости. Моя паэлья уже пользовалась неслыханной популярностью, и теперь они мечтали включить в свое меню целый раздел кушаний «от тетушки Фрамбуазы», например мои couscous ? la proven?ale, cassoulet trois haricots[20 - Кускус по-провансальски, рагу из баранины в горшочке с тремя сортами фасоли (фр.).] и, разумеется, «знаменитые блинчики тетушки Фрамбуазы».
– Понимаете, тетушка, – объяснял мне Янник с победоносной улыбкой, – самое главное, вам даже делать ничего не придется. Просто будьте собой, и все. Такой вот, естественной.
– А я могла бы вести колонку в нашем журнале, – прибавила Лора. – «Советы тетушки Фрамбуазы» или что-то в этом роде. Конечно же, вам, тетушка, ничего писать не потребуется. Я все сделаю сама.
И она лучезарно мне улыбнулась, точно запуганному ребенку, нуждавшемуся в поддержке.
Они снова притащили с собой Кассиса, который тоже лучезарно улыбался, хотя и был несколько смущен; мне показалось, что ему все-таки не по себе.
– Но ведь мы это уже обсуждали. – Я очень старалась держаться спокойно и твердо, чтобы голос ни в коем случае не дрогнул. – По-моему, я вполне ясно дала понять, что не желаю ни в чем таком участвовать. И никакой вашей помощи мне не надо.
Кассис был ошеломлен.
– Для моего сына это такая блестящая возможность, – промямлил он умоляюще. – Ты только представь себе, как полезна ему подобная публикация в журнале!
Янник кашлянул и поспешно внес свои поправки: