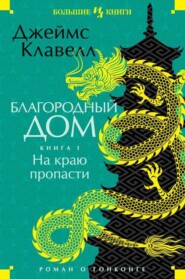По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гайдзин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– О Андре, – чуть слышно прошептала Анжелика по-французски со своего почетного места рядом с роялем; музыка прогнала из ее головы тяжелые, мрачные мысли, не дававшие ей покоя. – Это было восхитительно, я вам так, так благодарна.
Ее веер очаровательно затрепетал, глаза и лицо были совершенны, новый кринолин на тонких обручах поверх множества юбок, низкий вырез, открытые плечи, присобранный в складки тонкий зеленый шелк каскадом поднимался к очень узкой талии.
– Merci, Mademoiselle, – ответил Понсен. Он встал и поднял свой бокал, не особенно пряча смелый взгляд. – A toi![19 - За тебя! (фр.)]
– Merci, Monsieur, – ответила она, потом опять повернулась к Сератару, которого окружали Норберт Грейфорт, Джейми Макфей, Дмитрий и другие торговцы, все в вечерних костюмах, шелковых рубашках с оборками, ярких жилетах и галстуках – некоторые в новых, большинство же в старых, наскоро выглаженных по причине ее присутствия на вечере. Несколько армейских и морских офицеров-французов в богато украшенных позументом мундирах, с парадными шпагами у пояса, которые добавляли им непривычного для здешних мест великолепия. Британские офицеры напоминали павлинов в ничуть не меньшей степени.
Внимание всех было приковано к почетной гостье. Каждый пытался пробраться поближе к ней, а если уже стоял в кругу счастливчиков, старался отделаться от настойчивых локтей сзади и с боков.
– Отличный вечер, Анри, – говорила Анжелика.
– Своим успехом он обязан только вам. Вы озарили его своим присутствием, а в свете вашего сияния все кажется лучше. – Сератар привычно сыпал банальными комплиментами, думая про себя все это время: «Какая жалость, что ты еще не замужем и потому не созрела для связи с человеком утонченным. Бедная девочка, тебе придется выносить этого неискушенного быкообразного шотландца, пусть даже и богатого. Хотел бы я быть твоим первым настоящим любовником – учить тебя этой науке будет удовольствием для учителя».
– Вы улыбаетесь, Анри? – заметила она, вдруг почувствовав, что ей лучше быть поосторожнее с этим человеком.
– Я просто думал о том, как прекрасно складывается ваше будущее, и это наполнило меня радостью.
– Ах, вы так добры!
– Я думаю, что…
– Мисс Анжелика, простите мне мою смелость, в эту субботу мы устраиваем скачки, – вмешался Норберт Грейфорт, вне себя оттого, что Сератар монополизировал девушку. Грубость министра, говорившего с ней по-французски, на языке, которого он не понимал, вызывала в нем отвращение, он вообще презирал его и все французское, за исключением Анжелики. – Мы… э-э… включили в программу новый заезд… э-э… в вашу честь. Мы решили назвать его Кубок Эйнджел, а, Джейми?
– Да, – подтвердил Джейми Макфей, также очарованный ею. Он и Грейфорт оба являлись стюардами жокей-клуба. – Мы… ну, мы решили, что это будет последний заезд дня, и компания Струана выделяет призовые деньги: двадцать гиней за кубок. Вы согласитесь вручить приз, мисс Анжелика?
– О да, с удовольствием, если мистер Струан не будет возражать.
– О, разумеется. – Макфей уже спросил разрешения у Струана, но он и все, кто услышал эту фразу, тут же задумались над ее значением.
Капитан пришедшего торгового корабля, его старый друг, тайно передал ему письмо от матери Малкольма с просьбой о конфиденциальном донесении: «Я хочу знать все, что произошло со времени появления этой Ришо в Иокогаме, Джейми. Все: слухи, факты, сплетни, и мне нет нужды напоминать тебе, что это должно держаться в строгом секрете между нами».
«Смерть и преисподняя, – раздумывал Джейми, – я принес священную клятву служить тайпану, кто бы им ни был, а теперь его мать хочет… опять же она – мать и потому имеет право знать, не так ли? Вовсе не обязательно, да вот только миссис Струан имеет, потому что она – миссис Струан и… ну… ты привык делать то, что она хочет. Разве ты годами не выполнял все ее приказания, ее просьбы, ее предложения?
Ради всех святых, перестань обманывать себя, Джейми, ведь на самом деле это она долгие годы управляла Кулумом и всей компанией Струанов, но ни ты, ни другие просто не хотели открыто признавать этого».
– Правильно, – пробормотал он, потрясенный этой мыслью, которую так долго запихивал поглубже в тайники своего сознания. Почувствовав вдруг смущение, он торопливо взял себя в руки и попытался скрыть свой промах, но кругом все по-прежнему слушали одну только Анжелику.
Кроме Норберта.
– Что правильно, Джейми? – спросил он под шум разговора, улыбаясь своей непроницаемой улыбкой.
– Все, Норберт. Прекрасный вечер, а?
К его огромному облегчению, Анжелика отвлекла их обоих.
– Доброй ночи, доброй ночи, Анри, джентльмены, – произнесла она под общий протестующий гул. – Мне очень жаль, но я должна еще навестить своего больного, перед тем как лягу спать.
Она протянула руку. Сератар поцеловал ее с уже давно освоенной элегантностью, Норберт, Джейми и все остальные – неловко, и, прежде чем кто-либо успел вызваться, Андре Понсен спросил:
– Может быть, вы позволите мне проводить вас до дома?
– Конечно, почему нет? Ваша музыка околдовала меня.
Ночь была прохладной и облачной, но достаточно приятной. Анжелика красиво набросила на плечи шерстяную шаль; нижняя оборка ее широкого кринолина, предоставленная своей участи, волочилась по грязным доскам деревянного тротуара, столь необходимого во время летних дождей, превращавших дороги в сплошные болота. В этот миг только крошечная частичка ее сознания волочилась по грязи вместе с несчастным куском материи.
– Андре, ваше искусство удивительно. О, как бы я хотела играть так же, как вы, – говорила она с полной искренностью.
– Это всего лишь практика, практика – и ничего больше.
Они не спеша шли к ярко освещенной фактории Струанов, дружески беседуя на французском. Андре отчетливо чувствовал на себе завистливые взгляды мужчин, направлявшихся через улицу в клуб – шумный, полный людей, манящий; он был согрет этой девушкой, не похотью, страстью или желанием, а просто ее компанией и ее счастливым щебетом, на который ему едва требовалось отвечать.
Прошлой ночью на «французском» ужине у Сератара в отдельном кабинете отеля Иокогамы он сидел рядом с ней и нашел ее молодость и напускную фривольность освежающими для себя. Ее любовь к Парижу и знание города, его ресторанов, театров, разговоры ее юных друзей и подруг, шутки про них и про прогулки пешком или верхом в Булонском лесу, вся будоражащая кровь атмосфера Второй империи наполнили его ностальгией, заставили вспомнить свои собственные студенческие дни и то, как сильно он скучал по дому.
Слишком много лет прожито в Азии, в Китае и здесь.
«Любопытно, насколько эта девочка похожа на мою собственную дочь. Мари столько же лет, обе родились в одном и том же месяце, июле, те же глаза, тот же цвет волос, кожи…
Возможно, похожа на Мари, – поправил он себя. – Сколько лет прошло с тех пор, как я расстался с Франсуазой, оставив их обеих в пансионе недалеко от Сорбонны, который содержала ее семья и в котором я тогда снимал комнату? Семнадцать. А сколько лет прошло с тех пор, как я видел их в последний раз? Десять. Merde, мне ни в коем случае не следовало тогда жениться, сколь обворожительна ни была Франсуаза. Из нас двоих именно я во всем виноват, не она. Что ж, по крайней мере, она снова вышла замуж и сейчас заправляет родительским пансионом. Но вот Мари?»
Шум волн проник в его сознание, и он посмотрел на море. Над головой прокричала одинокая чайка. Недалеко от берега горели штаговые огни их флагмана, стоявшего на якоре, и это развеяло власть воспоминаний, вернув его к действительности и заставив сосредоточиться.
«Какая ирония, что эта девчурка становится теперь крайне важной пешкой в Большой игре – Франция против Британии. Да, но такова жизнь. Отложить мне все до завтра или до послезавтра или сдать карты прямо сейчас, как мы договорились, Анри и я?»
– Ах, – говорила она, обмахиваясь веером, – я так счастлива сегодня вечером, Андре, ваша музыка дала мне так много, я вдруг снова почувствовала себя в опере, эти звуки уносили меня вверх и вверх, пока я не ощутила тонкий аромат Парижа…
Против своей воли он был зачарован. «В чем тут дело? В ней самой или она просто напоминает мне, какой могла бы сейчас стать Мари? Не знаю, но так и быть, Анжелика, сегодня я оставлю тебя на твоем счастливом воздушном шаре. Завтра будет еще не поздно».
Тут его ноздри уловили легчайший аромат ее духов, «Vie de Camille», напомнив ему о флаконе, который он с таким трудом выписал из Парижа для своей мусуме Ханы – Цветка, – и внезапно охватившее его озлобление как вихрем смело все его благородные побуждения.
Поблизости не было никого, кто мог бы их слышать, Хай-стрит лежала почти пустынная в обе стороны. Но он все равно понизил голос:
– Мне очень жаль, что приходится говорить вам все это, но мне стало известно кое-что, о чем вы должны знать. Не представляю даже, с чего мне следовало бы начать, но… ваш отец посетил Макао несколько недель назад, он очень крупно играл там и проиграл. – Понсен заметил, как мгновенно побледнело ее лицо. Его душа распахнулась навстречу ей, но он продолжал следовать плану, который они выработали с Сератаром. – Извините.
– Очень крупно, Андре? Как это нужно понимать? – Ее слова прозвучали чуть слышно, он видел, как она смотрит на него широко открытыми глазами, напряженно застыв в тени здания.
– Он потерял все: свое дело, ваши средства.
Она охнула:
– Всё? Мои средства тоже? Но он не может!
– Мне искренне жаль, но может и уже сделал. Закон позволяет ему это: вы его дочь, вы не замужем, не говоря уже о том, что вы несовершеннолетняя, он ваш отец и вправе распоряжаться и вами, и всем, что вам принадлежит, но вам, разумеется, это и так известно. Еще раз извините, мне очень жаль. У вас есть какие-нибудь еще деньги? – поинтересовался он, зная, что у нее не осталось ни гроша.
– Простите? – Она вздрогнула всем телом и постаралась заставить свой мозг мыслить ясно.
Неожиданность, с которой ей открылось, что второй из ее самых ужасных страхов стал теперь реальностью и достоянием гласности, в клочья разодрала тот столь тщательно свитый кокон, в котором она пыталась спастись.
– Откуда… откуда вам известно все это? – запинаясь, пробормотала она, слепо ища руками какую-нибудь опору. – Мои, мои средства принадлежат мне… Он обещал.
Ее веер очаровательно затрепетал, глаза и лицо были совершенны, новый кринолин на тонких обручах поверх множества юбок, низкий вырез, открытые плечи, присобранный в складки тонкий зеленый шелк каскадом поднимался к очень узкой талии.
– Merci, Mademoiselle, – ответил Понсен. Он встал и поднял свой бокал, не особенно пряча смелый взгляд. – A toi![19 - За тебя! (фр.)]
– Merci, Monsieur, – ответила она, потом опять повернулась к Сератару, которого окружали Норберт Грейфорт, Джейми Макфей, Дмитрий и другие торговцы, все в вечерних костюмах, шелковых рубашках с оборками, ярких жилетах и галстуках – некоторые в новых, большинство же в старых, наскоро выглаженных по причине ее присутствия на вечере. Несколько армейских и морских офицеров-французов в богато украшенных позументом мундирах, с парадными шпагами у пояса, которые добавляли им непривычного для здешних мест великолепия. Британские офицеры напоминали павлинов в ничуть не меньшей степени.
Внимание всех было приковано к почетной гостье. Каждый пытался пробраться поближе к ней, а если уже стоял в кругу счастливчиков, старался отделаться от настойчивых локтей сзади и с боков.
– Отличный вечер, Анри, – говорила Анжелика.
– Своим успехом он обязан только вам. Вы озарили его своим присутствием, а в свете вашего сияния все кажется лучше. – Сератар привычно сыпал банальными комплиментами, думая про себя все это время: «Какая жалость, что ты еще не замужем и потому не созрела для связи с человеком утонченным. Бедная девочка, тебе придется выносить этого неискушенного быкообразного шотландца, пусть даже и богатого. Хотел бы я быть твоим первым настоящим любовником – учить тебя этой науке будет удовольствием для учителя».
– Вы улыбаетесь, Анри? – заметила она, вдруг почувствовав, что ей лучше быть поосторожнее с этим человеком.
– Я просто думал о том, как прекрасно складывается ваше будущее, и это наполнило меня радостью.
– Ах, вы так добры!
– Я думаю, что…
– Мисс Анжелика, простите мне мою смелость, в эту субботу мы устраиваем скачки, – вмешался Норберт Грейфорт, вне себя оттого, что Сератар монополизировал девушку. Грубость министра, говорившего с ней по-французски, на языке, которого он не понимал, вызывала в нем отвращение, он вообще презирал его и все французское, за исключением Анжелики. – Мы… э-э… включили в программу новый заезд… э-э… в вашу честь. Мы решили назвать его Кубок Эйнджел, а, Джейми?
– Да, – подтвердил Джейми Макфей, также очарованный ею. Он и Грейфорт оба являлись стюардами жокей-клуба. – Мы… ну, мы решили, что это будет последний заезд дня, и компания Струана выделяет призовые деньги: двадцать гиней за кубок. Вы согласитесь вручить приз, мисс Анжелика?
– О да, с удовольствием, если мистер Струан не будет возражать.
– О, разумеется. – Макфей уже спросил разрешения у Струана, но он и все, кто услышал эту фразу, тут же задумались над ее значением.
Капитан пришедшего торгового корабля, его старый друг, тайно передал ему письмо от матери Малкольма с просьбой о конфиденциальном донесении: «Я хочу знать все, что произошло со времени появления этой Ришо в Иокогаме, Джейми. Все: слухи, факты, сплетни, и мне нет нужды напоминать тебе, что это должно держаться в строгом секрете между нами».
«Смерть и преисподняя, – раздумывал Джейми, – я принес священную клятву служить тайпану, кто бы им ни был, а теперь его мать хочет… опять же она – мать и потому имеет право знать, не так ли? Вовсе не обязательно, да вот только миссис Струан имеет, потому что она – миссис Струан и… ну… ты привык делать то, что она хочет. Разве ты годами не выполнял все ее приказания, ее просьбы, ее предложения?
Ради всех святых, перестань обманывать себя, Джейми, ведь на самом деле это она долгие годы управляла Кулумом и всей компанией Струанов, но ни ты, ни другие просто не хотели открыто признавать этого».
– Правильно, – пробормотал он, потрясенный этой мыслью, которую так долго запихивал поглубже в тайники своего сознания. Почувствовав вдруг смущение, он торопливо взял себя в руки и попытался скрыть свой промах, но кругом все по-прежнему слушали одну только Анжелику.
Кроме Норберта.
– Что правильно, Джейми? – спросил он под шум разговора, улыбаясь своей непроницаемой улыбкой.
– Все, Норберт. Прекрасный вечер, а?
К его огромному облегчению, Анжелика отвлекла их обоих.
– Доброй ночи, доброй ночи, Анри, джентльмены, – произнесла она под общий протестующий гул. – Мне очень жаль, но я должна еще навестить своего больного, перед тем как лягу спать.
Она протянула руку. Сератар поцеловал ее с уже давно освоенной элегантностью, Норберт, Джейми и все остальные – неловко, и, прежде чем кто-либо успел вызваться, Андре Понсен спросил:
– Может быть, вы позволите мне проводить вас до дома?
– Конечно, почему нет? Ваша музыка околдовала меня.
Ночь была прохладной и облачной, но достаточно приятной. Анжелика красиво набросила на плечи шерстяную шаль; нижняя оборка ее широкого кринолина, предоставленная своей участи, волочилась по грязным доскам деревянного тротуара, столь необходимого во время летних дождей, превращавших дороги в сплошные болота. В этот миг только крошечная частичка ее сознания волочилась по грязи вместе с несчастным куском материи.
– Андре, ваше искусство удивительно. О, как бы я хотела играть так же, как вы, – говорила она с полной искренностью.
– Это всего лишь практика, практика – и ничего больше.
Они не спеша шли к ярко освещенной фактории Струанов, дружески беседуя на французском. Андре отчетливо чувствовал на себе завистливые взгляды мужчин, направлявшихся через улицу в клуб – шумный, полный людей, манящий; он был согрет этой девушкой, не похотью, страстью или желанием, а просто ее компанией и ее счастливым щебетом, на который ему едва требовалось отвечать.
Прошлой ночью на «французском» ужине у Сератара в отдельном кабинете отеля Иокогамы он сидел рядом с ней и нашел ее молодость и напускную фривольность освежающими для себя. Ее любовь к Парижу и знание города, его ресторанов, театров, разговоры ее юных друзей и подруг, шутки про них и про прогулки пешком или верхом в Булонском лесу, вся будоражащая кровь атмосфера Второй империи наполнили его ностальгией, заставили вспомнить свои собственные студенческие дни и то, как сильно он скучал по дому.
Слишком много лет прожито в Азии, в Китае и здесь.
«Любопытно, насколько эта девочка похожа на мою собственную дочь. Мари столько же лет, обе родились в одном и том же месяце, июле, те же глаза, тот же цвет волос, кожи…
Возможно, похожа на Мари, – поправил он себя. – Сколько лет прошло с тех пор, как я расстался с Франсуазой, оставив их обеих в пансионе недалеко от Сорбонны, который содержала ее семья и в котором я тогда снимал комнату? Семнадцать. А сколько лет прошло с тех пор, как я видел их в последний раз? Десять. Merde, мне ни в коем случае не следовало тогда жениться, сколь обворожительна ни была Франсуаза. Из нас двоих именно я во всем виноват, не она. Что ж, по крайней мере, она снова вышла замуж и сейчас заправляет родительским пансионом. Но вот Мари?»
Шум волн проник в его сознание, и он посмотрел на море. Над головой прокричала одинокая чайка. Недалеко от берега горели штаговые огни их флагмана, стоявшего на якоре, и это развеяло власть воспоминаний, вернув его к действительности и заставив сосредоточиться.
«Какая ирония, что эта девчурка становится теперь крайне важной пешкой в Большой игре – Франция против Британии. Да, но такова жизнь. Отложить мне все до завтра или до послезавтра или сдать карты прямо сейчас, как мы договорились, Анри и я?»
– Ах, – говорила она, обмахиваясь веером, – я так счастлива сегодня вечером, Андре, ваша музыка дала мне так много, я вдруг снова почувствовала себя в опере, эти звуки уносили меня вверх и вверх, пока я не ощутила тонкий аромат Парижа…
Против своей воли он был зачарован. «В чем тут дело? В ней самой или она просто напоминает мне, какой могла бы сейчас стать Мари? Не знаю, но так и быть, Анжелика, сегодня я оставлю тебя на твоем счастливом воздушном шаре. Завтра будет еще не поздно».
Тут его ноздри уловили легчайший аромат ее духов, «Vie de Camille», напомнив ему о флаконе, который он с таким трудом выписал из Парижа для своей мусуме Ханы – Цветка, – и внезапно охватившее его озлобление как вихрем смело все его благородные побуждения.
Поблизости не было никого, кто мог бы их слышать, Хай-стрит лежала почти пустынная в обе стороны. Но он все равно понизил голос:
– Мне очень жаль, что приходится говорить вам все это, но мне стало известно кое-что, о чем вы должны знать. Не представляю даже, с чего мне следовало бы начать, но… ваш отец посетил Макао несколько недель назад, он очень крупно играл там и проиграл. – Понсен заметил, как мгновенно побледнело ее лицо. Его душа распахнулась навстречу ей, но он продолжал следовать плану, который они выработали с Сератаром. – Извините.
– Очень крупно, Андре? Как это нужно понимать? – Ее слова прозвучали чуть слышно, он видел, как она смотрит на него широко открытыми глазами, напряженно застыв в тени здания.
– Он потерял все: свое дело, ваши средства.
Она охнула:
– Всё? Мои средства тоже? Но он не может!
– Мне искренне жаль, но может и уже сделал. Закон позволяет ему это: вы его дочь, вы не замужем, не говоря уже о том, что вы несовершеннолетняя, он ваш отец и вправе распоряжаться и вами, и всем, что вам принадлежит, но вам, разумеется, это и так известно. Еще раз извините, мне очень жаль. У вас есть какие-нибудь еще деньги? – поинтересовался он, зная, что у нее не осталось ни гроша.
– Простите? – Она вздрогнула всем телом и постаралась заставить свой мозг мыслить ясно.
Неожиданность, с которой ей открылось, что второй из ее самых ужасных страхов стал теперь реальностью и достоянием гласности, в клочья разодрала тот столь тщательно свитый кокон, в котором она пыталась спастись.
– Откуда… откуда вам известно все это? – запинаясь, пробормотала она, слепо ища руками какую-нибудь опору. – Мои, мои средства принадлежат мне… Он обещал.