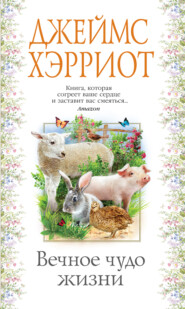По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
И все они – создания природы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Доброго пути, мистер Хэрриот, – сказал он. – Заправитесь горючим в Риме, а в Стамбуле будете рано утром. Уверен, Стамбул вас очарует. Всего хорошего.
Представив себе, как тяжелогруженая громадина приземляется где-то на своих лысых шинах, я вздрогнул, но тут же отогнал от себя эту мысль и опустился рядом с Джо и Ноэлем на продавленное сиденье.
Мы ждали, ждали, ждали, а в рубке тянулась какая-то бесконечная дискуссия. Сразу стало ясно, что человеческий элемент внутри самолета распадается на две части – экипаж и фермеров с ветеринаром. На нас троих никто не обращал ни малейшего внимания, если не считать сопровождаемого суровым взглядом строгого предупреждения, которое нам сделал капитан:
– Вы будете как следует следить за коровами? Они стоят больших денег, и отвечаю за них я. Надеюсь, вы с них глаз не спустите?
– Разумеется, – ответил я. – Для этого мы и летим с ними.
Голос мой звучал твердо, но я понятия не имел, как поведут себя коровы, когда поглотившее их чудовище с ревом оторвется от земли. Если они в панике начнут метаться и переломают себе ноги, мне останется только достать пистолет и избавить их от лишних мучений. Но капитана это вряд ли особенно обрадует.
Скрашивая томительное ожидание, мы втроем переговаривались между собой. Джо и Ноэль рассказывали мне про всякие свои неприятности, а я описывал им жизнь йоркширского ветеринара. Затем около часа ночи, к нашему большому облегчению, закашляли, разогреваясь, моторы, и «Геракл» вырулил на взлетную полосу.
Настала роковая минута, и я, повернувшись, уставился на сорок гладких спин. Моторы взвыли, огромная машина, содрогаясь и подпрыгивая, ринулась вперед. Последний толчок – и ощущение, что мы возносимся все выше, выше…
Коровы только чуть покачивались и смотрели на меня с безмятежным спокойствием. Некоторые, пока мы поднимались в ночное небо, с аппетитом пережевывали сено.
Слава богу! Ну просто природные летчицы. Я со вздохом облегчения откинулся на спинку и увидел, что Карл, Дейв и Эд изо всей мочи тянут какую-то канатную петлю. Выяснилось, что огромное шасси не до конца вошло внутрь. Несколько секунд спустя их дружные усилия были вознаграждены, и они невозмутимо вернулись на свои места, словно убирать шасси вручную было для них делом привычным. От нечего делать я прикинул, сколько еще механизмов в этом самолете могут работать плохо или вовсе не работать.
Радовало меня одно: чем выше мы поднимались, тем прохладней становилось в отсеке, и опасность погибнуть от жары полностью миновала.
День для Джо, Ноэля и меня выдался долгий. Встали мы ни свет ни заря, и теперь погрузились в чуткую дремоту, то и дело вздрагивая и поглядывая на наших подопечных. Затем я разом очнулся: мы шли на посадку. Я не спускал глаз с коров все время, пока мы, громыхая, прыгали по взлетной полосе, однако они и это приняли с прежним тихим достоинством.
Но вот «Геракл» замер, и я увидел пылающую неоновую надпись: «Мюнхен».
– Заправляемся, – буркнул Карл.
Мистер Костейн предупредил меня о заправке в пути. Но в Риме. А это оказался Мюнхен. И вновь во мне пробудилось грызущее сомнение. Ни единый пункт блистательной программы, которую набросал Джон Крукс, пока еще не осуществился.
Впрочем, приземлились мы на своих лысых шинах вполне благополучно, как затем и взлетели, хотя Карлу с Дейвом снова пришлось поднапрячься, втягивая шасси.
Около пяти утра мы трое, совсем истомившись, думали только о том, как бы поразмять затекшее тело. Первым не выдержал Джо. Он встал, поманил нас за собой и пробрался мимо коров в хвост, где вольготно растянулся на большой куче сена. Мы благодарно последовали его примеру.
Опять-таки это сено не слишком напоминало мягкое ложе в роскошной каюте моего друга Джона Крукса во время вояжа по Средиземному морю. Но мне оно показалось куда великолепнее. Я сомкнул веки и погрузился в сладкую пучину сна. Конечно, долг и капитан требовали, чтобы я неусыпно стерег дорогостоящий груз, но глаза у меня неумолимо слипались. К тому же, хотя я летел где-то высоко в ночном мраке над Югославией, запахи и звуки вокруг были такими привычными, как если бы я не покидал Дарроуби: благоухание сена, сладкое дыхание коров, их покряхтывание, чавканье десятков медленно жующих челюстей. Все это, такое знакомое, такое родное, убаюкало меня в одну секунду.
Когда я снова открыл глаза, отсек заливал яркий солнечный свет. Я взглянул на свои часы. Семь! Оба фермера неподвижно покоились на сене. Вскочив на ноги, я с тревогой оглядел ряды коров. Уф-ф! Можно было подумать, что они у себя в родном коровнике на Джерси. Одни спокойно лежали на соломе, другие столь же спокойно стояли и жевали свою жвачку. Удивительно мирная сцена!
Однако в рубке разворачивались какие-то далеко не мирные события. Поглядев туда поверх коровьих спин, я обнаружил, что члены экипажа словно охвачены лихорадкой: они метались из стороны в сторону, выглядывали в правые иллюминаторы, передвигали невидимые мне рычаги и ручки.
Я пробрался вперед вдоль перекладин и выглянул в иллюминатор. Ближний ко мне правый мотор не работал. Четыре лопасти пропеллера застыли в неподвижности, а изнутри мотора, ввинчиваясь в незапятнанную голубизну небес, била черная струя, растекалась струйками по крылу, заляпывала стекло иллюминатора. Никто не оглянулся на меня, не пожелал мне доброго утра. Нет, паники я не ощутил, но все они были очень озабочены.
Тут я обнаружил кое-что похуже: из-под кожуха мотора выбивалось пламя. Внезапно длинный огненный язык облизал крыло. Но прежде, чем я успел толком понять, что это означает, как пламя исчезло, видимо сбитое усилиями экипажа. Капитан, Эд, Дейв и Карл заметно расслабились и даже обменялись бледными улыбками. В ухо мне вонзился шепот:
– Тот еще самолет, а Джим?
Рядом со мной стоял Джо, ошеломленно уставившись на неподвижный мотор, на почернелый кожух. Ноэль заглядывал через его плечо, весь белый, и молчал.
А мы летели себе и летели на трех моторах по безоблачной голубизне над бирюзовым морем далеко внизу. Вскоре «Геракл» пошел на снижение, и я увидел панораму сказочного города, всю в куполах мечетей и стрелах минаретов. Да, самолет был еще тот, но он доставил нас в Стамбул!
30
В течение многих лет мне вновь и вновь вспоминалось мудрое изречение мистера Гарретта: «Чтобы быть родителем, надо иметь железные нервы!» Однако тот показательный концерт учеников мисс Ливингстон по классу фортепьяно потребовал бы нервов из сверхтвердого сплава.
Мисс Ливингстон, пятидесятилетняя очень симпатичная дама с приятным мягким голосом давала в Дарроуби уроки музыки не одному поколению юных дарований и ежегодно устраивала концерт в местном зале, дабы продемонстрировать успехи своих учеников в возрасте от шести до примерно шестнадцати лет, и зал при методистской церкви неизменно переполняли гордые родители и их добрые знакомые.
В тот год, о котором пойдет речь, Джимми было девять и он готовился к торжественному дню, не слишком утомляясь.
В маленьких городках все друг друга знают, и пока ряды заполнялись, шел непрерывный обмен дружескими приветствиями, кивками и улыбками. Мне досталось крайнее место у центрального прохода, Хелен села справа от меня, а по ту сторону узкого свободного пространства я увидел Джеффа Уорда, скотника старого Уилли Ричардсона. Он сидел, вытянувшись в струнку, чинно положив руки на колени. Темный праздничный пиджак, казалось, вот-вот лопнет по швам на напряженных мускулистых плечах. Обветренное крупное лицо было отдраено до блеска, а непокорная шевелюра гладко прилизана – на бриллиантин Джефф явно не поскупился.
– Здравствуйте, Джефф, – сказал я. – Кто-то из ваших младших выступает?
Он поглядел на меня и улыбнулся во весь рот.
– А, мистер Хэрриот! Ага. Наша Маргарет. У нее на пианино хорошо получается, вот только бы сумела лицом в грязь не ударить.
– Что вы, Джефф! Мисс Ливингстон – превосходная учительница, и Маргарет, конечно, сыграет отлично.
Он кивнул и отвернулся к сцене. Концерт начался.
Первыми играли крохотные мальчики в коротких штанишках и девчушки в пышных платьицах с оборками. Ножки в носочках болтались высоко над педалями.
Мисс Ливингстон стояла поблизости, готовая сразу же прийти на помощь в трудную минуту, но слушатели лишь снисходительно улыбались их мелким ошибкам, разражаясь по завершении каждой пьески громовыми аплодисментами.
Однако я заметил, что, когда очередь дошла до учеников чуть постарше и пьесы стали сложнее, вокруг начало нарастать напряжение. Ошибки уже не вызывали улыбок. Вот Дженни Ньюкомб, дочка зеленщика, сбилась раз, другой, наклонила голову, словно собираясь заплакать, и зал замер в тревожном безмолвии. Да и сам я стиснул зубы и сжал кулаки так, что ногти вонзились в ладонь. Однако Дженни совладала с собой, снова бойко заиграла, и я, расслабившись, поймал себя на мысли, что мы здесь – не просто родители, пришедшие послушать, как их дети играют перед публикой, но братья и сестры во страдании.
По ступенькам на сцену вскарабкалась Маргарет Уорд, и ее отец превратился в каменного истукана. Уголком глаза я видел, с какой силой мозолистые пальцы Джеффа сжимают колени.
Маргарет играла очень мило, пока не дошла до довольно сложного аккорда, и тут нам в уши ударил режущий диссонанс. Она поняла, что сбилась, попробовала еще раз, и еще раз, и еще… вздергивая голову от тщетных усилий.
– Нет, деточка, до и ми, – ласково поправила мисс Ливингстон, и Маргарет опять ударила по клавишам, – изо всех сил и не по тем.
– Господи, она совсем запуталась! – охнул я про себя и вдруг заметил, что сердце у меня бешено колотится, а мышцы просто судорога сводит.
Я покосился на Джеффа. Побледнеть при таком цвете лица невозможно, но его лоб и щеки пошли жуткими пятнами, а ноги конвульсивно подергивались. Видимо, он почувствовал мой взгляд, потому что обратил на меня полные муки глаза и изобразил жалкое подобие улыбки. Его жена вся вытянулась вперед с полуоткрытым ртом.
Пока Маргарет рылась в клавишах, переполненный зал застыл в мертвой тишине. Казалось, прошла вечность, прежде чем девочка взяла правильный аккорд и отбарабанила остальное без единой дополнительной ошибки. Хотя слушатели облегченно перевели дух и громко захлопали больше от облегчения, чем от восторга, я всем своим существом понял, что этот маленький эпизод обошелся нам очень дорого.
Во всяком случае, я погрузился в какой то тягостный транс и тупо следил, как на табурете одна маленькая фигурка сменяет другую. Но сбоев больше не было. А затем подошел черед Джимми.
Бесспорно, нервничали не только все родители, но и большинство исполнителей, однако к моему сыну это не относилось. Он беззаботно поднялся на сцену, только что не насвистывая сквозь зубы, а к роялю прошествовал с некоторой заносчивостью. «Тьфу, подумаешь!» – говорило каждое его движение.
Я же при его появлении окостенел. Ладони вспотели, в горле поднялся тяжелый ком. Конечно, я пытался себя пристыдить. Но тщетно. Что я чувствовал, то чувствовал.
Играл Джимми «Танец мельника» название это будет гореть в моем мозгу до смертного часа. Естественно, веселый бойкий мотив я знал наизусть до последнего звука. Джимми заиграл с большим подъемом, вскидывая руки и встряхивая головой, как Артур Рубинштейн в зените своей славы.
Примерно на середине «Танца мельника» быстрый темп сменяется с энергичного «та-рум-тум-тидл-идл-ом-пом-пом» на медлительные «та-а-рум, та-а-рум, та-а-рум», а затем устремляется дальше прежним карьером. Композитор тут весьма искусно внес разнообразие в вещицу.
Джимми лихо проскакал первую половину, замедлился на таких мне знакомых «та-а-рум, та-а-рум, та-а-рум» и я ожидал, что он рванет дальше во весь опор, но его руки замерли, глаза несколько секунд пристально вглядывались в клавиши, а затем он снова проиграл медленные такты, и снова остановился.
Представив себе, как тяжелогруженая громадина приземляется где-то на своих лысых шинах, я вздрогнул, но тут же отогнал от себя эту мысль и опустился рядом с Джо и Ноэлем на продавленное сиденье.
Мы ждали, ждали, ждали, а в рубке тянулась какая-то бесконечная дискуссия. Сразу стало ясно, что человеческий элемент внутри самолета распадается на две части – экипаж и фермеров с ветеринаром. На нас троих никто не обращал ни малейшего внимания, если не считать сопровождаемого суровым взглядом строгого предупреждения, которое нам сделал капитан:
– Вы будете как следует следить за коровами? Они стоят больших денег, и отвечаю за них я. Надеюсь, вы с них глаз не спустите?
– Разумеется, – ответил я. – Для этого мы и летим с ними.
Голос мой звучал твердо, но я понятия не имел, как поведут себя коровы, когда поглотившее их чудовище с ревом оторвется от земли. Если они в панике начнут метаться и переломают себе ноги, мне останется только достать пистолет и избавить их от лишних мучений. Но капитана это вряд ли особенно обрадует.
Скрашивая томительное ожидание, мы втроем переговаривались между собой. Джо и Ноэль рассказывали мне про всякие свои неприятности, а я описывал им жизнь йоркширского ветеринара. Затем около часа ночи, к нашему большому облегчению, закашляли, разогреваясь, моторы, и «Геракл» вырулил на взлетную полосу.
Настала роковая минута, и я, повернувшись, уставился на сорок гладких спин. Моторы взвыли, огромная машина, содрогаясь и подпрыгивая, ринулась вперед. Последний толчок – и ощущение, что мы возносимся все выше, выше…
Коровы только чуть покачивались и смотрели на меня с безмятежным спокойствием. Некоторые, пока мы поднимались в ночное небо, с аппетитом пережевывали сено.
Слава богу! Ну просто природные летчицы. Я со вздохом облегчения откинулся на спинку и увидел, что Карл, Дейв и Эд изо всей мочи тянут какую-то канатную петлю. Выяснилось, что огромное шасси не до конца вошло внутрь. Несколько секунд спустя их дружные усилия были вознаграждены, и они невозмутимо вернулись на свои места, словно убирать шасси вручную было для них делом привычным. От нечего делать я прикинул, сколько еще механизмов в этом самолете могут работать плохо или вовсе не работать.
Радовало меня одно: чем выше мы поднимались, тем прохладней становилось в отсеке, и опасность погибнуть от жары полностью миновала.
День для Джо, Ноэля и меня выдался долгий. Встали мы ни свет ни заря, и теперь погрузились в чуткую дремоту, то и дело вздрагивая и поглядывая на наших подопечных. Затем я разом очнулся: мы шли на посадку. Я не спускал глаз с коров все время, пока мы, громыхая, прыгали по взлетной полосе, однако они и это приняли с прежним тихим достоинством.
Но вот «Геракл» замер, и я увидел пылающую неоновую надпись: «Мюнхен».
– Заправляемся, – буркнул Карл.
Мистер Костейн предупредил меня о заправке в пути. Но в Риме. А это оказался Мюнхен. И вновь во мне пробудилось грызущее сомнение. Ни единый пункт блистательной программы, которую набросал Джон Крукс, пока еще не осуществился.
Впрочем, приземлились мы на своих лысых шинах вполне благополучно, как затем и взлетели, хотя Карлу с Дейвом снова пришлось поднапрячься, втягивая шасси.
Около пяти утра мы трое, совсем истомившись, думали только о том, как бы поразмять затекшее тело. Первым не выдержал Джо. Он встал, поманил нас за собой и пробрался мимо коров в хвост, где вольготно растянулся на большой куче сена. Мы благодарно последовали его примеру.
Опять-таки это сено не слишком напоминало мягкое ложе в роскошной каюте моего друга Джона Крукса во время вояжа по Средиземному морю. Но мне оно показалось куда великолепнее. Я сомкнул веки и погрузился в сладкую пучину сна. Конечно, долг и капитан требовали, чтобы я неусыпно стерег дорогостоящий груз, но глаза у меня неумолимо слипались. К тому же, хотя я летел где-то высоко в ночном мраке над Югославией, запахи и звуки вокруг были такими привычными, как если бы я не покидал Дарроуби: благоухание сена, сладкое дыхание коров, их покряхтывание, чавканье десятков медленно жующих челюстей. Все это, такое знакомое, такое родное, убаюкало меня в одну секунду.
Когда я снова открыл глаза, отсек заливал яркий солнечный свет. Я взглянул на свои часы. Семь! Оба фермера неподвижно покоились на сене. Вскочив на ноги, я с тревогой оглядел ряды коров. Уф-ф! Можно было подумать, что они у себя в родном коровнике на Джерси. Одни спокойно лежали на соломе, другие столь же спокойно стояли и жевали свою жвачку. Удивительно мирная сцена!
Однако в рубке разворачивались какие-то далеко не мирные события. Поглядев туда поверх коровьих спин, я обнаружил, что члены экипажа словно охвачены лихорадкой: они метались из стороны в сторону, выглядывали в правые иллюминаторы, передвигали невидимые мне рычаги и ручки.
Я пробрался вперед вдоль перекладин и выглянул в иллюминатор. Ближний ко мне правый мотор не работал. Четыре лопасти пропеллера застыли в неподвижности, а изнутри мотора, ввинчиваясь в незапятнанную голубизну небес, била черная струя, растекалась струйками по крылу, заляпывала стекло иллюминатора. Никто не оглянулся на меня, не пожелал мне доброго утра. Нет, паники я не ощутил, но все они были очень озабочены.
Тут я обнаружил кое-что похуже: из-под кожуха мотора выбивалось пламя. Внезапно длинный огненный язык облизал крыло. Но прежде, чем я успел толком понять, что это означает, как пламя исчезло, видимо сбитое усилиями экипажа. Капитан, Эд, Дейв и Карл заметно расслабились и даже обменялись бледными улыбками. В ухо мне вонзился шепот:
– Тот еще самолет, а Джим?
Рядом со мной стоял Джо, ошеломленно уставившись на неподвижный мотор, на почернелый кожух. Ноэль заглядывал через его плечо, весь белый, и молчал.
А мы летели себе и летели на трех моторах по безоблачной голубизне над бирюзовым морем далеко внизу. Вскоре «Геракл» пошел на снижение, и я увидел панораму сказочного города, всю в куполах мечетей и стрелах минаретов. Да, самолет был еще тот, но он доставил нас в Стамбул!
30
В течение многих лет мне вновь и вновь вспоминалось мудрое изречение мистера Гарретта: «Чтобы быть родителем, надо иметь железные нервы!» Однако тот показательный концерт учеников мисс Ливингстон по классу фортепьяно потребовал бы нервов из сверхтвердого сплава.
Мисс Ливингстон, пятидесятилетняя очень симпатичная дама с приятным мягким голосом давала в Дарроуби уроки музыки не одному поколению юных дарований и ежегодно устраивала концерт в местном зале, дабы продемонстрировать успехи своих учеников в возрасте от шести до примерно шестнадцати лет, и зал при методистской церкви неизменно переполняли гордые родители и их добрые знакомые.
В тот год, о котором пойдет речь, Джимми было девять и он готовился к торжественному дню, не слишком утомляясь.
В маленьких городках все друг друга знают, и пока ряды заполнялись, шел непрерывный обмен дружескими приветствиями, кивками и улыбками. Мне досталось крайнее место у центрального прохода, Хелен села справа от меня, а по ту сторону узкого свободного пространства я увидел Джеффа Уорда, скотника старого Уилли Ричардсона. Он сидел, вытянувшись в струнку, чинно положив руки на колени. Темный праздничный пиджак, казалось, вот-вот лопнет по швам на напряженных мускулистых плечах. Обветренное крупное лицо было отдраено до блеска, а непокорная шевелюра гладко прилизана – на бриллиантин Джефф явно не поскупился.
– Здравствуйте, Джефф, – сказал я. – Кто-то из ваших младших выступает?
Он поглядел на меня и улыбнулся во весь рот.
– А, мистер Хэрриот! Ага. Наша Маргарет. У нее на пианино хорошо получается, вот только бы сумела лицом в грязь не ударить.
– Что вы, Джефф! Мисс Ливингстон – превосходная учительница, и Маргарет, конечно, сыграет отлично.
Он кивнул и отвернулся к сцене. Концерт начался.
Первыми играли крохотные мальчики в коротких штанишках и девчушки в пышных платьицах с оборками. Ножки в носочках болтались высоко над педалями.
Мисс Ливингстон стояла поблизости, готовая сразу же прийти на помощь в трудную минуту, но слушатели лишь снисходительно улыбались их мелким ошибкам, разражаясь по завершении каждой пьески громовыми аплодисментами.
Однако я заметил, что, когда очередь дошла до учеников чуть постарше и пьесы стали сложнее, вокруг начало нарастать напряжение. Ошибки уже не вызывали улыбок. Вот Дженни Ньюкомб, дочка зеленщика, сбилась раз, другой, наклонила голову, словно собираясь заплакать, и зал замер в тревожном безмолвии. Да и сам я стиснул зубы и сжал кулаки так, что ногти вонзились в ладонь. Однако Дженни совладала с собой, снова бойко заиграла, и я, расслабившись, поймал себя на мысли, что мы здесь – не просто родители, пришедшие послушать, как их дети играют перед публикой, но братья и сестры во страдании.
По ступенькам на сцену вскарабкалась Маргарет Уорд, и ее отец превратился в каменного истукана. Уголком глаза я видел, с какой силой мозолистые пальцы Джеффа сжимают колени.
Маргарет играла очень мило, пока не дошла до довольно сложного аккорда, и тут нам в уши ударил режущий диссонанс. Она поняла, что сбилась, попробовала еще раз, и еще раз, и еще… вздергивая голову от тщетных усилий.
– Нет, деточка, до и ми, – ласково поправила мисс Ливингстон, и Маргарет опять ударила по клавишам, – изо всех сил и не по тем.
– Господи, она совсем запуталась! – охнул я про себя и вдруг заметил, что сердце у меня бешено колотится, а мышцы просто судорога сводит.
Я покосился на Джеффа. Побледнеть при таком цвете лица невозможно, но его лоб и щеки пошли жуткими пятнами, а ноги конвульсивно подергивались. Видимо, он почувствовал мой взгляд, потому что обратил на меня полные муки глаза и изобразил жалкое подобие улыбки. Его жена вся вытянулась вперед с полуоткрытым ртом.
Пока Маргарет рылась в клавишах, переполненный зал застыл в мертвой тишине. Казалось, прошла вечность, прежде чем девочка взяла правильный аккорд и отбарабанила остальное без единой дополнительной ошибки. Хотя слушатели облегченно перевели дух и громко захлопали больше от облегчения, чем от восторга, я всем своим существом понял, что этот маленький эпизод обошелся нам очень дорого.
Во всяком случае, я погрузился в какой то тягостный транс и тупо следил, как на табурете одна маленькая фигурка сменяет другую. Но сбоев больше не было. А затем подошел черед Джимми.
Бесспорно, нервничали не только все родители, но и большинство исполнителей, однако к моему сыну это не относилось. Он беззаботно поднялся на сцену, только что не насвистывая сквозь зубы, а к роялю прошествовал с некоторой заносчивостью. «Тьфу, подумаешь!» – говорило каждое его движение.
Я же при его появлении окостенел. Ладони вспотели, в горле поднялся тяжелый ком. Конечно, я пытался себя пристыдить. Но тщетно. Что я чувствовал, то чувствовал.
Играл Джимми «Танец мельника» название это будет гореть в моем мозгу до смертного часа. Естественно, веселый бойкий мотив я знал наизусть до последнего звука. Джимми заиграл с большим подъемом, вскидывая руки и встряхивая головой, как Артур Рубинштейн в зените своей славы.
Примерно на середине «Танца мельника» быстрый темп сменяется с энергичного «та-рум-тум-тидл-идл-ом-пом-пом» на медлительные «та-а-рум, та-а-рум, та-а-рум», а затем устремляется дальше прежним карьером. Композитор тут весьма искусно внес разнообразие в вещицу.
Джимми лихо проскакал первую половину, замедлился на таких мне знакомых «та-а-рум, та-а-рум, та-а-рум» и я ожидал, что он рванет дальше во весь опор, но его руки замерли, глаза несколько секунд пристально вглядывались в клавиши, а затем он снова проиграл медленные такты, и снова остановился.